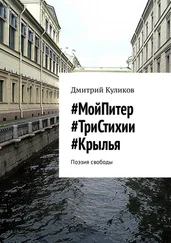— Сын ваш прав. Нужно ли ему повторять всю вашу жизнь, как и жизнь всего человечества? Он верит. Этого вполне достаточно.
Мишка вскочил и, очутившись у самого лица митрополита, горячо крикнул:
— Я не про ту веру говорил. Вы меня не поняли…
Отца огорчил неожиданно резкий и невежливый поступок мальчика.
— Миша! Спокойно надо спорить.
Но митрополит и тут решил выгадать. Зная, что все мысли мальчика рождены под влиянием отца, он решил становиться на сторону Мишки во время всех его мелких столкновений с Игорем Михайловичем.
— Не сдерживайте его! — восторженным голосом произнес митрополит. — Спорить нужно страстно, беспокойно, горячо.
Но замечание отца дошло до Мишки больше, чем эти слова митрополита. Мальчик сел на место, и ровная школьная улыбка осветила его круглое лицо.
— Я не спорю. Я просто хотел уточнить.
— А вера, мой друг Мишка, бывает только одна. И отцу, и товарищу, и себе самому, и книжке, и всему-всему верят люди одним и тем же способом. Но об этом мы с тобой поговорим завтра. Я буду у вас гостить целый день. Хорошо?
Поговорив с матерью о хозяйстве, о погодах в нынешний дачный сезон, о том, как пахнет сосна по вечерам, митрополит уехал.
Ночью, просыпаясь, Игорь Михайлович при свете ночника видел, как Мишка ворочается в своей постели, как мотает его бессонница, и жалел, что затеял всю эту историю с митрополитом. Он понимал, что ему следует радоваться, что эта бессонница подчеркивает удачу его опыта, что противоречия, которые сейчас мешают ровному сну, закалят мальчика, сделают его более пригодным для путаной жизни, и все-таки жалел сына слепо, тепло, опасливо, как лет тринадцать тому назад, когда маленький пухленький ребенок вдруг начинал плакать и не мог сказать, что у него болит.
Весь следующий день митрополит провел с Мишкой. Отец уехал на работу и не знал, как прошло это время. Вернувшись, он застал их дружбу.
Безветренный вечер стоял за окнами и неподвижная тишина. Игорь Михайлович, когда вошел во двор, подумал, что в доме никого нет. Дверь была открыта. Мать спала в маленькой комнате, а в большой за пианино сидел митрополит и возле него Мишка. Они молчали.
Это молчание испугало отца. Готовый ко всему, он понял бы любой спор между ними, любую ссору. Но о чем они могли молчать?
Он остановился в дверях. Его остановила та оторопь, та смесь решительности и нерешительности, которая бывает, когда застанешь кого-нибудь на месте преступления.
Минуты три длилось молчание, затем митрополит взял несколько аккордов, круто повернулся и встал.
— Я тоже не знаю, где Бог, — сказал он. — Зачем обманывать тебя и рассказывать сказки о престоле Царя небесного, о том, что он похож на старика с облачной бородой и носит солнечную корону? Я не знаю, где Бог. Но когда я делаю зло, я боюсь, что мне воздастся, а когда я играю, я чувствую, что он близко-близко, где-то рядом.
Митрополит простер руки, потом резко сел — почти упал на круглый табурет и ударил по клавишам. Он играл Бетховена, и под его звуки вечер темнел за окнами, обозначались звезды и сгущалась устойчивая тишина.
Мальчик молчал.
Нужно было оборвать это состояние. Немедленно. Спешно.
— А вот и я! — крикнул Игорь Михайлович. Но вместо радостного возгласа получилось, будто он хотел напугать задумавшихся людей.
— Женка! Ксанка! Угости чаем.
Игорь Михайлович ходил по дому и рассудочной точной прозой разбивал музыку митрополита, которая еще гудела в стенах. Отрывок из симфонии, сыгранный только что, был знаком Игорю Михайловичу: под эту симфонию много лет тому назад в копенгагенском концертном зале он представлял себе родную затерянную русскую станцию, к которой подходят поезда, но не для трехминутных остановок, а для того, чтобы разбиться вдребезги, сойти с рельс и рассыпаться в шуме крушения.
Теперь эта музыка несла другое, и отец хотел предотвратить крушение и, расставляя на столе сахарницу, сухарницу, стаканы, делал это серьезно, как будто расчищал путь, подготавливая поле боя.
— Поговорим о вере, — сказал он, — мы вчера не успели закончить нашего спора. Мы закончим его сегодня.
Митрополит погладил мальчика по голове, и отец увидел, как будто показанные крупным планом отдельно, — круглую голову, по которой скатывается восковая длинная кисть скелета.
— На чем же мы покончили?
Как ни всматривался Игорь Михайлович в глаза мальчика, он не мог уловить смысла Мишкиного молчания. Испуг или тупость — круглые, как зрачки, стояли неподвижно. Можно было даже подумать, что он не слышит голоса митрополита.
Читать дальше