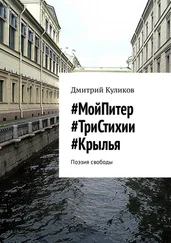Сын улыбнулся и вздохнул.
— Их нужно разоблачить.
— Как же это сделать? Поехать в Москву, что ли? Или прямо так им и сказать: «Ах вы, бюрократы! Я вас разоблачаю»?
— Зачем? И в Москву не надо. В том же месте, где кража произошла, есть партийное руководство, комсомол, контрольная комиссия, много организаций. Ты чего, батя, меня экзаменуешь? Я ведь знаю, что ты коммунист, чекист и так же точно думаешь.
Мишка все улыбался, и тут Игорь Михайлович понял эту улыбку и понял, что действительно получился экзамен, по каким инстанциям надо ходить, что он не сумел трогательно рассказать о судьбе несчастного человека, и поэтому все его слова не задели сознания мальчика, прошли по его поверхности.
«А может быть, тут дело не в моем плохом рассказе, — подумал Игорь Михайлович, — а в том, что, может быть, они просто не понимают жалости, страха смерти, как это было у него с бабушкой Новицкой, не понимают загадок вечности, не верят в возможность неразрешимых противоречий, не тревожатся при виде страданий отдельных людей…»
Игорь Михайлович встал из-за стола и вышел в сад. Утро едва заметным туманом оседало на клумбах, на листьях, скамейках и особенно на дорожках. Наверху уже был день, голубело небо, что-то щебетало, пело и носилось в высоте, а здесь едва заметной влажностью, нетронутостью лежало сыроватое утро, и, ступая на дорожку, Игорь Михайлович ощущал, что его башмаки нарушают эту нетронутость и оставляют след. И несмотря на то, что подошвы были толсты, ему казалось, что он ходит босиком, и стянутая кожей обутая нога передавала всему телу дрожь и щекотность прохлады. Это память хранила давние ощущения детства, и, видоизменяясь, исчезая вовсе, они вдруг просыпались с первоначальной силой… Идешь к отцу на станцию, земля под тобой мягкая, свежая и пахнет сеном, — вот как сейчас. Где-то далеко идет поезд, виден белый-белый крученый дымок, и дымок этот тоже пахнет скошенным сеном. Приходишь к отцу, он чистит паровоз.
— Ты чего пришел, Игорь? Что нужно?
— Ничего не нужно. Так пришел. В гости.
— Мать жива?
— Жива.
— Ну, иди домой.
Но домой не уходишь, шатаешься по станции, смотришь в окошко на телеграфиста, на рыбу в буфете, на дядек, которые спят на полу и ждут поезда. Сколько они его ждут? Ведь и в прошлый раз, и месяц тому назад, и зимой они лежали так точно на полу, почти в тех же позах. Когда же придет их поезд, и куда они едут?
И вспоминая с точностью, которая вселяет тревогу, потому что от нее более темным и непонятным становится провал между точным прошлым и точным настоящим, Игорь Михайлович начинал понимать, что в четырнадцать лет, в Мишкином возрасте, он был переполнен любопытством, нерешенные вопросы подстерегали его на каждом шагу и что, разрешая их постепенно, трудно он прожил всю свою жизнь, с нефтепромыслами, тюрьмой, Христианией, Копенгагеном, типографией, фронтом и работой в Чека. Правда, в девятнадцать лет он понял, что есть линия, на которой лежат все эти вопросы, но все годы и до сих пор он не отмахивался от них, а волочил их сюда, «на линию», и отвечал отсюда.
Года три тому назад, ночью, ехал в машине в горный санаторий с двумя неизвестными ему спутниками. Едва они выехали на шоссе, как один из них сказал:
— Тут, товарищи, знаменитые виды. Досада, что ночь и ничего не видать!..
Игорь Михайлович, как это часто бывает с людьми, долго собирающимися отдыхать и выезжающими неожиданно, чуть ли не по приказу, всю дорогу от Москвы суетился, перебирал записки, заходил на станциях в посты, разговаривал с поездной бригадой, не находил себе места, и от неожиданной необходимости резко изменить темп жизни маялся и проклинал всех, кто заставляет его, живого и деятельного человека, серьезно заниматься бездействием. Когда же, выехав на шоссе, он увидел огромное черное небо, все в звездах, увидел мрак и мироздание, он мгновенно почувствовал, что спешить некуда, и начались отдых, примиренность и пустота.
— Какие звезды! — сказал второй спутник, старик в чесучовом пиджаке. — Это лучше всяких видов. Страшно.
— Что «страшно»? — спросил первый.
— Огромность — страшно, — ответил старик. — Неведомость. Космос. Хочется жить тысячи лет, когда смотришь на эту огромность. Ведь я дитя перед этим, а мне шестьдесят пять лет…
Первый спутник поморщился, как будто старик спел или прочел стихи без просьбы об этом.
— Не понимаю, — сказал он. — Небо, конечно, красивое, но если не ахать и не охать, а честно вдуматься, так на нем такая же скука, как и всюду. Как в этих диких горах проложено это удобное шоссе и ясна целесообразная дорога, так и там все выяснено, и звезды ходят по своим орбитам на службу и на дежурство и подчиняются точным и выясненным законам.
Читать дальше