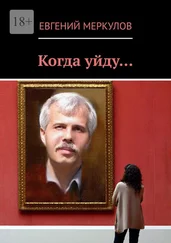Когда Ширмер сказал «говорить про жизнь, петь песню», Щеголев снова недобро усмехнулся, глядя на этот значок.
— О, это ужас! Это грех! Это плохо! Это фашизм! — Зацепляя за край крыла, Ширмер старался его отковырять. — Это только маскировка, для меня — маскировка. Я — коммунист! Я коммунист с тридцатого года! — Он вздернул к плечу сжатый кулак:
— Рот фронт! Рот фронт, камерады! Но пассаран! Фашизм не пройдет!
— А потом? Вы уехали с родителями, а потом? Что потом? — спросил Ардатов.
Ширмер вздохнул, улыбнулся, как бы извиняясь, что не сдержал своих чувств.
— Мастерская была маленькая. Плохая. — Он свел выцветшие, соломенные брови к переносице, вспоминая:
— Инфляция, марка падала. Голод. Разруха. У нас это тоже было. Контрибуция победителям. Отец разорился. Капиталист не получился. — Ширмер опять извинительно улыбнулся, улыбнулся вспоминая несбывшиеся мечты отца, если не разбогатеть в Германии, то хотя бы иметь пусть маленькое, но свое дело. — Голод, — повторил он. — Классовые бои. Тельман. Спартаковцы. — Он похлопал себя по карманам, достал сигареты.
Ардатов успел прочесть на пачке «Болгария».
«И там они!» — отметил он.
Ширмер, стукнув пачку о ладонь так, что несколько сигарет выдвинулось, товарищеским жестом протянул пачку им.
Они закурили.
— Потом? — Ардатов выпустил дым. Табак был хотя и слаб, но хорош, ароматен, и здесь, в сожженной солнцем степи, его запах казался странным, неуместным. — Потом?
— Я работал на заводе. «Симонсверке». Рур. Токарь. Там стал функционером.
— Потом? С тридцать третьего?
Лицо Ширмера потемнело, он насупился, его небольшой тонкогубый рот сжался. Он посмотрел между ними, на запад, где за две тысячи верст от них была Германия.
— С тридцать четвертого на конспирации. Партия потеряла много функционеров. Ушла в подполье. Гестапо умело работать — много, очень много провалов! После Испании на свободе осталось мало. Считанные, наверное, сотни. Я только функционер. Я знаю мало. Несколько человек. Но я знаю, что такое фашизм.
— Мы тоже, — процедил Щеголев. — Познакомились. На своей шкуре.
Ширмеру, видимо, очень хотелось сломать отчужденность. Он, наверное, считал, что для этого должен им объяснить свое понимание фашизма.
— Фашизм — это когда нет человека. Есть Рейх. Фюрер. Фатерланд. Фольк. Народ — фольк — вообще. Человека, одного человека — нет. Он есть лишь как часть фолька. И нужен как эта часть. Только. Сам по себе — нет. Его сердце, голова, мысли — нет. Они не нужны фюреру, рейху, фольку. Вредные. Их следует коренить. М… М… м… — Ширмер сделал жест, показывая, как что-то надо отрубить в самом низу.
— Искоренять, — помог Ардатов.
— Да! Да! Искоренять! — подхватит Ширмер и показал опять как будто что-то рубит, а потом, что как будто что-то выдергивает из земли. — Поэтому все, что не есть из фюрера, рейха — плохо. Вредно. Хорошо — немец над всеми другими, — он поднял высоко руку, — а среди немцев — немец над немцем. Хорошо — рейх — дисциплина. Думай, говори, делай, как приказано. Не рассуждать. Не обсуждать. Выполнять! За всех думает фюрер. Он знает, что хорошо, что плохо. Ты — не знаешь. Хорошо то, что хорошо рейху, а что тебе нехорошо — мелочь. Глупость. Рейхдисциплина, — повторил он. — Дисциплина рейха. Выполнять! Тебе приказывают — ты выполнять! Ты приказываешь — он выполнять.
Щеголев понял все это по-своему. Он хмыкнул:
— Ты начальник — я дурак. Я начальник — ты дурак! И не тот прав, кто прав, а тот прав, у кого больше прав.
— Не совсем так! — возразил было Ширмер, но, подумав, согласился: — Но, может, есть и так.
— Так! — подтвердил Щеголев. — Гражданская жизнь — не армия, и если на гражданке заводят военную дисциплину, — он махнул рукой, — тогда жизнь пропала!..
Ардатов посмотрел на часы. Казалось, этот разговор должен был бы занять много времени, и Ардатов хотел бы, чтобы он занял много времени, осталось бы меньше до вечера, до ночи — меньше для разведбата и батальона танков — но прошло лишь пятнадцать минут.
— Ну и что? — механически спросил он, думая, что же ему надо сейчас будет делать, но, затягивая разговор, как будто это могло затянуть и действия разведбатальона и батальона танков. — Чем все это кончится? Этот рейх… Этот фатерланд… Фольк?
Ширмер отрицательно покачал головой.
— Не знаю. Но страшным.
Ширмер уже не пытался убедить их верить ему. Он заговорил торопясь, как бы освобождаясь от всех тех мыслей, которые приходили к нему не раз и не раз мучили, потому что он все не находил главного ответа на главный вопрос: «Чем все это кончится для Германии?». Видимо, он понимал, что так, как началось в тридцать третьем году, вечно в Германии продолжаться не может, что все эти штучки насчет тысячелетнего рейха, господства все эти тысячи лет над другими народами — лишь абсурд, гигантский пропагандистский обман. А раз так, значит, весь этот фашизм должен кончиться. Но вот когда? И как?
Читать дальше
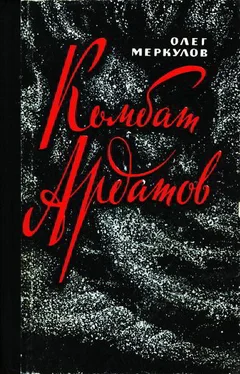

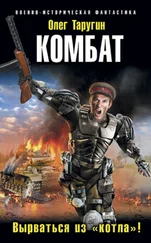



![Олег Таругин - Комбат. Остановить блицкриг! [сборник litres]](/books/414459/oleg-tarugin-kombat-ostanovit-blickrig-sbornik-thumb.webp)