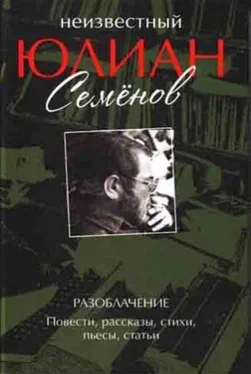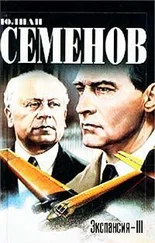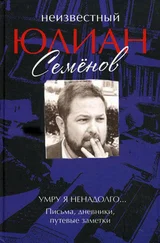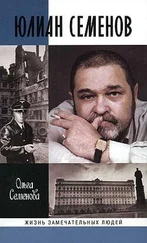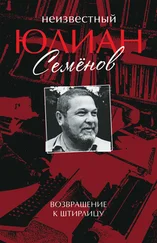Василий показал сцену из «Бесприданницы». Он раз двадцать ходил в кинотеатр «Повторного фильма», когда там показывали протазановскую ленту; его актеры абсолютно точно скопировали интонации Кторова и Алисовой, но ведь копия хороша, если только она авторская...
Преподаватели недоуменно переглядывались; Грущин показал ничто, поделку. А Санькиных «Романтиков» приняли на «ура» и предложили обкатать композицию в колхозных аудиториях Подмосковья. Это было прекрасное лето, когда Санька, Митяй, Лена Шубина и Юра Холодов бродяжничали на попутных грузовиках, ночевали в маленьких домиках сельских школ, свернувшись калачиками на полу, а по вечерам давали представление на открытых площадках, и не было в жизни более благодарных зрителей, чем тогдашние беспаспортные, без права выезда в город колхозники, все больше женщины, дети да инвалиды, пятьдесят третий год, восемь лет всего как кончилась война...
А на втором курсе Митяй написал Саньке композицию по «Лейтенанту Шмидту» Пастернака. И Санька, несмотря ни на что, стал сталинским стипендиатом. А Василий показал отрывок из «Югославской трагедии» Мальцева, и ему поставили тройку. Было обсуждение показов; Санька утешал Грущина, говорил ему, что хорошее начало, как правило, оборачивается дурным концом. «Ты меня задавишь на третьем курсе; хочешь следующую постановку сделаем вдвоем?» — Василий докурил сигарету, жадно затянулся напоследок и ответил: «Что ж, спасибо, подумаю». Они вошли в зал, и первым на трибуну поднялся Василий. — Думаю, все согласятся со мною: у нас определился лидер, и этого лидера зовут Александр Писарев. Его постановка, бесспорно, самая интересная, именно потому я и хочу поделиться с вами своей тревогой за будущее нашего товарища, которого все мы успели полюбить за те полтора года, что вместе учимся в стенах нашего замечательного института, ставшего для нас родным домом. Постановка Сани, повторяю, талантлива, но ведь она вся... как бы не обидно выразиться... она вся формальна, в ней налицо рациональность, расчет, в ней нет изначального чувства, все выверено, как в математике... Разве это типично для нашего искусства? И оформление какое-то модерновое, будто не в Москве придумано, а далеко на Западе. А ведь там художнику приходится фиглярничать, чтобы заманить зрителя, ошеломить его и на этом сделаться заметным... Разве нам это нужно? Разве наш зритель этого ждет? Когда я смотрел постановку, я забыл о Шмидте, товарищи, я только ждал, чем Саша еще ошеломит нас? Чем? Саня, не сердись, Платон мне друг, но истина дороже! Ведь когда ты показывал свою работу, ты не о лейтенанте Шмидте думал, а о себе как режиссере! Ты стал им — для меня, во всяком случае... Но ты им останешься навсегда и для всех, если будешь сначала думать о герое, а потом уже о себе... Не сердись, Саня...
Писарев сидел, глупо улыбаясь, не в силах понять, что случилось. За него заступались студенты; профессор смотрел на своих питомцев влюбленно; когда страсти накалились, бросил с места:
— Так сказать, мне нравится все это! Молодец Писарев, и Грущин тоже молодец! Сшибка мнений рождает, так сказать, атмосферу творчества! Но в споре не надо использовать бланки обвинительного заключения! Истинную принципиальность отличают широта взгляда, терпимость и доброжелательство! К барьеру, Писарев! Я хочу посмотреть, сколь вы сильны и доказательны в диспуте! Я намерен послушать, как вы умеете защищать свое искусство!
Писарев тогда поднялся, долго молчал, хотел было говорить о том, что он понимает под термином «формализм», думал рассказать о Шостаковиче, Таирове, Кончаловском и Прокофьеве, которых корили этим самым формализмом, но потом неожиданно для себя повернулся к Грущину и сказал:
— А ты, знаешь ли, большая подлюга.
— Значица сказа, — рассмеялся профессор, точно сыграв свое понимание слов Писарева как актерскую, хорошо поставленную шутку, — не довод! Не довод!
— Есть и довод, — ответил Писарев. — Я только сейчас понял, что такое зависть. Это когда один человек не может осуществить свой замысел, а другой может. Такое не прощают. И человека пепелит изнутри, он кончен, и ничто его не спасет, он пропал для людей...
...Дослушав разговор кадровика с капитаном Друзовым, консультант управления Василий Грущин легко пробросил:
— Вы б порасспросили, что случилось... Саня Писарев — мой институтский знакомец, он горяч и крут; когда его исключили из комсомола и института за неправильное поведение как комсорга, он та кое натворил... Мы его с трудом спасли от ба-альшой беды... Сейчас его думали двигать на главрежа... Надо вовремя во всем разобрать
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу