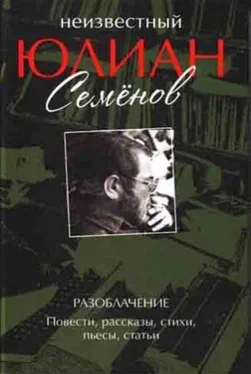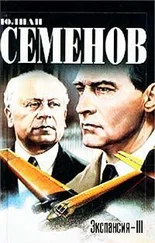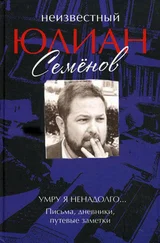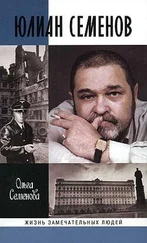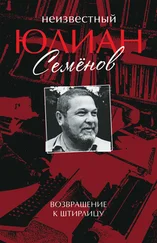— Что он, Высоцкий, что ль! Или Райкин? Диной этой самой занялись?
— Конечно.
— Попусту его не тревожьте, они ведь обидчивые больно, эти артисты с режиссерами, у каждого — покровителей тьма, самого высокого ранга... Запросите на Дину и всех знакомых Писаревой характеристики...
— А на него?
— Дело есть дело, надо соблюдать форму. Справочку мне напишите, чтоб я толком начальству доложил, у меня в пять рапорт. Успеете?
— Схематично — да.
— Так вы иначе как схематично пока ничего и написать не сможете, как ни бейтесь... Месяцев восемь — в лучшем случае — придется ковырять эту кучу... Вот бабы, а?! Особливо избалованные... Им бы белье постирать да полы помыть по квартирам, чтоб устатку поболе... А как этот Писарев? Не фордыбачил?
— Нет, — ответил Друзов, чуть помедлив поначалу. — Достойно себя вел.
... В кабинете кадровика управления, когда раздался звонок капитана Друзова, как раз и находился главный консультант управления, кандидат искусствоведения Василий Грущин, готовивший по поручению руководства справку на Писарева и его коллектив...
Грущин не просто не любил Писарева; он болезненно, до темноты в глазах ненавидел его.
Поначалу в институте они были друзьями, особенно на первых двух курсах; высокий, очень спортивный Василий и Санька, квадратный, словно обрубок, с перебитым в драке носом, растолстевший после того, как врачи запретили ему заниматься боксом после третьего по счету нокаута.
Санька был всегда влюблен в своих друзей, очень ими гордился, выставлял их вперед: «Василий Грущин — грандиозный режиссер, он наделен даром, он впереди всех нас, мы ему в подметки не годимся», «Митя Степанов — великий репортер, я убежден, что после института он сделается звездой» (имя Михаила Кольцова тогда еще не произносилось вслух), «Левон Кочарян — самый замечательный парень, какой только есть, он вообще гений, он всесторонен, а его главный талант — быть другом».
Санька всегда помнил, как на дне рождения у Льва Меломанова в Покровском-Стрешневе отец произнес тост:
— Молодой грузин, гуляя по развалинам старинной крепости, забрел на кладбище. Тишина там была, только сухо стрекотали кузнечики и налетал порою сухой, горячий ветер. Молодой грузин ходил среди надгробий и читал надписи. На одном камне выбито:
«Шота, родился в тысяча восьмисотом году, умер в восемьсот девяностом, жил на земле двенадцать месяцев». На другом: «Серго, родился в восемьсот десятом, умер в восемьсот тридцать шестом, жил двадцать шесть лет». На третьем: «Акакий, родился в восемьсот пятом, умер в девятисотом, жил на земле пять месяцев». Повстречался молодому грузину старый пастух, и обратился юноша к деду с вопросом: «Ответь мне, уважаемый, отчего такие странные надписи на здешних надгробиях? Человек прожил чуть что не сто лет, а написано всего пять месяцев?» Старик ответил: «Юноша, в нашем крае возраст человека определялся не по тому, сколько лет он провел на земле, а по тем мгновениям, что он отдал дружбе». Так выпьем же за дружбу, Левушка и Сережа Новиков!
Санька долго раздумывал над отцовским тостом, а потом однажды сказал:
— Па, а все равно не выходит... Отец
удивился:
— О чем ты?
— Помнишь, ты про грузин рассказывал, которые дружат?
— А как же.
— Так вот, не мог Серго прожить двадцать шесть лет.
— Почему?
— А спать-то он должен был? Во сне ведь нельзя дружить!
— Можно, сын. Если ты ложишься спать, зная, что есть у тебя друзья, то и во сне ты будешь с ними и проснешься счастливым.
Санька ужасно тосковал, когда видел, что в команде что-то не складывалось; Митя Степанов не любил Василия Грущина, подтрунивал над ним постоянно, как-то сказал: «Вася, знаешь, на кого ты похож? Ты похож на Мартынова». «Ничего подобного, — ответил Грущин. — Мартынов — крепкий, приземистый, резкий, груболицый, чисто тамбовский тип лица». «Да я ж не о поэте говорю, — усмехнулся Митя, — я о том Мартынове, который Лермонтова убил».
Ответь бы ему Василий что-нибудь резкое, и все бы обошлось, мало ли, неудачная шутка, с кем не случается, но быстро реагировать Грущин не умел; он зато умел тяжело, глубинно обижаться; таил гнев в себе, думал, как отомстить, придумать не мог, оттого злобился, и не только на Степанова, но и на Левона и на Саньку: отчего промолчали? Зачем не ответили?
Он не знал, как Санька, провожая Левона и Степанова в общежитие, корил Митю:
— Разве можно так? Ведь это действительно обидно. Трудно тебе было обернуть все на шутку? Васька знаешь какой ранимый? При думай что-нибудь, как все это уладить, Митяй, так нельзя, честное слово. Вася даже побледнел, ты не заметил, а у меня все внутри застыло.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу