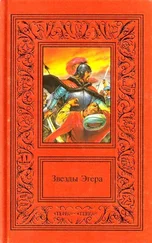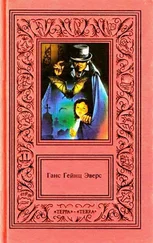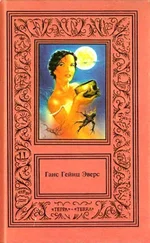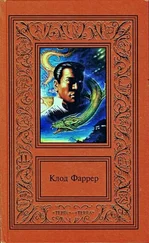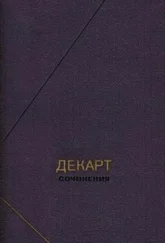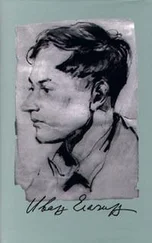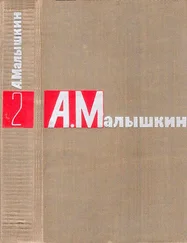— Я пришел к вам просить хлеба.
Недоуменно передернув плечами, хозяйка отворачивается к печи. Из темного угла, с массивного сундука, неторопливо поднимается бородач хозяин.
— Вошел — не поздоровался, — насмешливо замечает он. — И просишь… да разве так просят, без поклона, без почтительности?
— Надеюсь, вы поняли меня, хозяин? Я пришел за хлебом.
Бородач смотрит на Шуру сверху вниз, — он втрое больше и, может быть, впятеро сильнее этого хрупкого паренька в старенькой солдатской шинели, но паренек удивительно спокоен, и его полное, непритворное бесстрашие обескураживает кулака.
— Вижу, что голоден, — помолчав, равнодушно роняет хозяин, наклоняется, берет из помойного ведра заплесневелый сухарь и подает Бойченко.
— Что ж, милый товарищ, подкрепись.
Шура остается невозмутимым. Он не замечает сухаря. Мысленно он говорит себе: нужно быть спокойным. Это — враг. Темный, исконный и яростный, враг не скрывает злобы, он готов перегрызть горло, да, за этот сухарь, который — его собственность, а собственность, его культ, — неразлучна с жестокостью, с дикостью.
Шура не замечает воспаленных ненавистью глаз; мысленно он видит прозрачные лица сиротских детей, слышит их тихий плач. Неторопливо он подымается с табурета и проходит в прихожую, где, — ему это известно заранее, — под домашним скарбом скрыта ляда, ведущая в хранилище, полное зерна.
Отодвинув какую-то кадку и отбросив в сторону полстину, Шура открывает ляду, все время чувствуя, как целятся в него исступленные, с холодной сумасшедшинкой глаза. Что ж, это борьба. Молодой коммунист на практике познает ее суровые законы. В минуты, когда сердце сжимается от боли или клокочет от ненависти, — он остается внешне бесстрастным, внутренне исполненным решимости: уверенное спокойствие не изменяет ему.
Первый секретарь первой комсомольской ячейки депо, активный участник первых субботников, безусый солдат ЧОНа, Бойченко проходит большую и суровую школу жизни. Эта школа — тысячи встреч, распознаваний, столкновений характеров, кропотливой работы с людьми, огорчений и радостей в борьбе за человека. Сущность своей общественной деятельности он всегда рассматривал, как служение людям труда, — этому его учили старшие товарищи-коммунисты, — служение, исполненное доброты, бескорыстия и отваги. Перебирая в памяти пережитое, он не раз повторяет Александре Григорьевне, что жизнь наградила его такими замечательными друзьями, таким запасом «горючего материала» из летописи их дел, что этих невыдуманных фактов было бы достаточно для целой серии романов. Он и действительно часами рассказывает ей о друзьях, восхищаясь их доброй душевной силой, но когда в один из праздников редакция молодежной газеты просит Бойченко рассказать о себе, он опускает «переживания», предпочитая анкету. «Через месяц после вступления в комсомол, — пишет он, — меня избрали секретарем ячейки. Работал на железнодорожном узле. Четыре года — с 1920-го по 1924-й — брал участие в ликвидации бандитизма. В партии с 1923 года. Несколько раз был на выборной профсоюзной работе в Киеве и на станции Круты. Затем снова на комсомольской работе: секретарем райкома ЛКСМУ в Киеве, секретарем Киевского окружкома комсомола, а с мая 1929 года — секретарем Центрального Комитета ЛКСМУ…»
Каждую строчку этой записи он мог бы развернуть в пространное повествование. В ту героическую пору воздвигался гигант нашей энергетики — Днепрогэс. Шуру Бойченко знали здесь, пожалуй, все молодые строители, да и он знал по именам, по приметным фактам биографий множество парней и девчат. Его видели в молодежных общежитиях, на рабочих площадках, в красных уголках, в больнице, в столовых, казалось, он умел угадывать, где и в какое время потребуется его вмешательство, помощь, совет, и с ним не только считались — его любили.
Строился завод заводов — краматорский промышленный гигант, и можно было подумать, что Шура Бойченко не покидал его ни на один день: он постоянно был в курсе всех событий на строительстве. Не раз выступал он в цехах Луганского паровозостроительного завода, харьковских, макеевских, мариупольских заводов, на железнодорожных узлах республики, у шахтеров Донбасса.
Донбассовцы старшего поколения помнят, как труден был для их края 1931 год. Шахты недодавали стране тысячи тонн угля. Слово «прорыв» то и дело мелькало на газетных полосах: ломались, бездействовали механизмы, умножались аварии, текучесть рабочей силы становилась бедствием, и в этой сложной и напряженной обстановке нередко вызывающе орудовал вредитель, враг.
Читать дальше