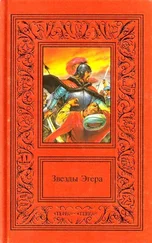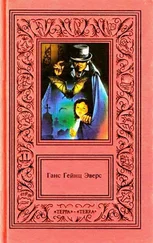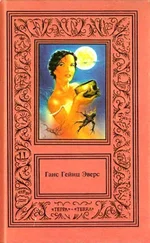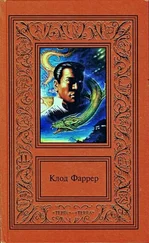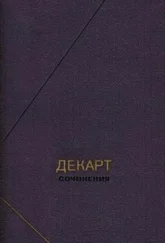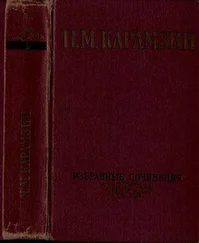— И что за прелесть Киев — город на зеленых волнах! Да, хорошо сказано у Рыльского: «Хвилею зеленою здiймається по веснi Батиєва гора»… Он весь на хвылях-волнах, Киев, и потому так насыщен солнцем, красками, воздухом простора. Я люблю его окраины, тихие, зеленые переулки, где этой ранней осенней порой пахнет спелыми яблоками, вялыми травами и сырой землей и брезжатся дали столетий. В Киеве что ни шаг — история, памятник, легенда. Мне показали гору Щековицу. Так, ничего особенного… И вдруг резануло это название — Щековица . Да ведь на ней был погребен князь Олег! «Есть же могила его и до сего дни, словеть могыла Ольгова». Это из «Повести временных лет»… Нет, по Киеву не пройдешь равнодушным.
Постепенно я открывал в Бабеле все новые черты; он любил и знал историю древней Руси, изучал киевские археологические находки, мог цитировать наизусть «Слово о полку Игореве», знал иностранные языки и западную литературу, помнил многих поэтов, даже словотворческие стихи Хлебникова, обожал театр, интересовался цирком, французской борьбой, скачками, но, быть может, наиболее увлекали его неторопливые, непринужденные вечерние беседы с друзьями о судьбах человеческих — простых и сложных, особенно о любви. Иногда он повторял строки Верхарна: «Любви забытой колесницу львы грустные влекут сквозь темный сад». И тут же с интересом спрашивал: «Расскажите мне о своем первом знакомстве с девушкой. О той поре, когда пробуждается чувство. Итак, вы увидели ее, наверное, вздрогнули, онемели? Как же вы познакомились? Как подошли? О чем говорили? Что испытывали? Это ведь очень сложный эмоционально-психологический момент. В мировой литературе ему посвящены бесчисленные страницы. Ну же, припоминайте и рассказывайте…»
Ясным октябрьским вечером мы шли по аллейке парка, и красный кленовый лист, тихо кружа, опустился ему на плечо. Он осторожно взял лист, бережно расправил, прислонил, потом всей ладонью крепко прижал к губам.
— Удивительно, — произнес он шепотом, пряча лист в нагрудный карман. — Знаете, пахнет морем! Будто весточку из Одессы принесло… — И стал медленно, с расстановкой цитировать Тютчева: — «…Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть…»
Заключительные строки стихотворения: «Что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страданья…» — он повторил дважды. Голос его дрогнул, на глаза навернулись слезы. Но тут же от лирики он перешел к юмору:
— «Божественная стыдливость»! Вы знаете, как мне за нее досталось? Я уже хотел однажды рассказать вам об Алексее Толстом, да что-то отвлекло нас. Я познакомился с ним в Ленинграде, и он пригласил меня к себе домой. Показывал редкие книги, старинную посуду, угощал отличной привозной мадерой, в общем, был элегантен, любезен и щедр. Была у него собственная машина, куцый американский фордик, он сам ее водил и этим почему-то гордился. Как-то предлагает он проехаться к нему на дачу, в Красное Село. Я соглашаюсь, едем. По дороге три или четыре машины обогнали, и каждый раз он медленно, снисходительно оглядывался на оставленного позади водителя, мол, знай наших! А машинка, фордик, маленькая и смешная. Толстой — громадина, он едва втискивал себя за руль. Я не сдержался, заметил, что хозяин габаритами внушительнее фордика. Возможно, он обиделся, но не подал вида. А вечером, после ужина, в самом отличном настроении мы возвращаемся в Ленинград, и, глядя на грустные, тронутые бронзой деревья у дороги, он начинает читать Тютчева. Постепенно увлекается, умиляется и цитирует не точно: вместо «божественной стыдливостью» — произносит «задумчивой стыдливостью». Я, конечно, вношу поправку. Нет, не тут-то было, Алексей Николаевич упрямится: «Задумчивой»! Будто назло и фордик начинает упрямиться, чихает, фыркает, «спотыкается». «Вот видите, — говорю я Толстому не без „мадерианского“ озорства, — даже ваш „козлик“, на что уж потешное создание, но и тот против искажений Тютчева взбунтовался».
Фордик останавливается, окончательно глохнет мотор, и Толстой некоторое время сидит молча, неподвижно.
Наконец протягивает руку, не оборачиваясь, открывает заднюю дверцу и произносит с угрозой:
«Ну?..»
Я в недоумении: вокруг пустынная местность, уже наступают сумерки, с Балтики тянет влажный ветер. Я робко спрашиваю:
«Что… „ну“?..»
«Запомните раз и навсегда», — выговаривает он неузнаваемым скрипучим басом, и голос его срывается от бешенства, — да, запомните, что у меня нет никакого «козлика» или «потешного создания», а есть отличная легковая машина. Во-вторых, у Тютчева сказано: «задумчивой стыдливостью». Выходите. У вас будет возможность обдумать все, что произошло.
Читать дальше