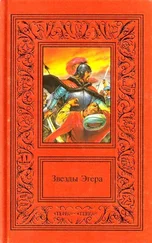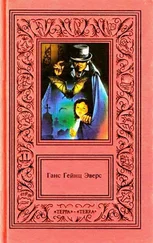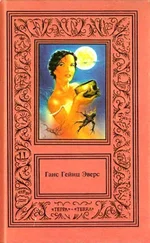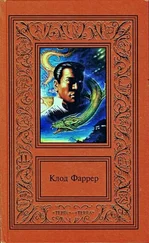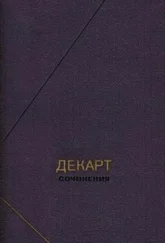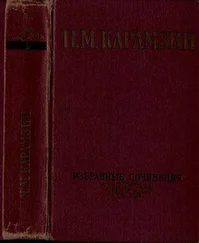— Ты человек мыслящий, Изотов, — сказал Беспощадный. — Ты сам и ответил, Никита, на свой вопрос. Подвиг мечтой тебе светит, огоньком на высоком рубеже, и нужно быть смелым и душевно щедрым, чтобы на общее доброе дело вести за собой людей. Тут, может, еще один вопрос притаился: заметят или не заметят? А какая твоя забота? Важно, чтобы они жизнью стали — и мечты твои, и дела.
Шло время, имя и дела Никиты Изотова гремели по Донбассу, а я не раз вспоминал тот скромный павильон в Горловке и за столом, рядом с поэтом, притихшего в напряженном раздумье забойщика с «Кочегарки», и книгу в его руке, и спокойный голос Беспощадного:
— Ты сам ответил, Никита, на свой вопрос…
Максима Горького шахтерский поэт Павел Беспощадный любил самозабвенно; многие страницы его рассказов, повестей, романов мог читать наизусть, изумляясь душевному богатству героев, их кипучим страстям, горьковской музыке слова, глубине его лиризма, вдохновенной вере в человека-труженика, созидателя счастья на земле.
Неизменно и с нежностью он называл Алексея Максимовича «земляком», а несведущим охотно рассказывал, что в пору своих скитаний Горький работал одно время в ремонтной путевой артели на железной дороге в Славянске.
С младенчества влюбленный в свой Донбасс, Беспощадный был трогательно уверен, что именно здесь, в шахтерском краю, в средоточии многообразной и яркой трудовой жизни, начался и определился творческий путь многих больших писателей Родины, В подтверждение он принимался перечислять имена, обязательно начиная с Горького, называл Даля, Чехова, Гаршина, Куприна, Вересаева, Каронина, Рубакина, Свирского и других.
— Ты думаешь, что тогда, в девяностых годах, у нас в Славянске, на железной дороге, мытарился за жалкие пятаки какой-то безвестный бродяга — Пешков? — строго-задиристо спрашивал собеседника Беспощадный, будто заранее уверенный именно в таком ответе. — Нет, уважаемый, бродяга остался в далеком прошлом. А это был писатель в великом походе через жизнь. Он зорко всматривался — «чем люди живы», вникал в их тайные думы, чутко прислушивался к разговорам, негодуя против лжи, накапливая в сердце гнев и горючую муку. Он еще не знал своего имени, зато отлично знал имя своего врага — живоглота, живодера капиталиста. Он был доподлинным пролетарием, а эта земля таких бездомных, бесправных и созывала. О, брат, здесь, в Донбассе тех времен, многое он мог увидеть. И пусть еще никто не знал, что к слову этого человека будет прислушиваться весь мир, мы-то с тобой сегодня знаем, что в страстном таланте его, в щедром сердце запечатлелся и наш Донбасс…
Ранней весной 1936 года стало известно, что Горький серьезно болен. Я удивился резкой перемене в Беспощадном: он выглядел сумрачным и нелюдимым, при встрече рассеянно говорил о незначительных вещах. Но вдруг не удержался, спросил настороженно:
— Слышал?..
— Ты о Горьком?
— Я все эти дни только о нем и думаю. Прошлой ночью написал ему стихи. Послушай их и помоги мне решиться отослать. — Он грустно задумался. — Но, быть может, не следует обременять его стихами? Одного хочется, чтобы знал он, земляк сердечный, чувства таких, как я, и чтобы слились они, чувства немыслимого числа людей, передались ему через расстояния, и свершилось чудо общей воли — исцеление. Об этом я и написал стихи.
Но чуда не случилось: 18 июня 1936 года радио разнесло скорбную весть — Горького не стало.
Вечером ко мне постучался Беспощадный, спросил с порога, не здороваясь:
— Ты собрался? Как, ты не знаешь? Через два часа делегация Донбасса выезжает в Москву.
А потом были краткие сборы, и необычайно долгая дорога, и грустные толпы на станциях, и собранная, суровая в траурной печали Москва.
В жизни есть минуты великой и захватывающей глубины — их не забыть и по прошествии десятилетий; они вмешают в себя мгновенный слепок события, которое не пройдет, не сотрется в потоке дней, — для него у истории особый счет времени.
В памяти моей в эти минуты вместился скорбно-торжественный Дом союзов, огромное, строгое пространство Колонного зала; молчание, а в нем — ощутимое, сдержанное дыхание толпы, а над нею — холодящий блеск мрамора, креп и багрянец знамен и нежная жалоба скрипок, от которой трепещет сердце.
Черная урна возвышалась в мягком пятне света над алым бархатом, над грудами цветов и сверкала антрацитовым блеском. Только небольшая черная урна, — так мало. Добрый великан, человек удивительной судьбы, чья жизнь — громадье труда и вдохновения, улыбаясь, смотрел с портрета на своих бесчисленных друзей, и был он, как всегда, волнующе-близок, но одновременно уже и далек, непривычно, непонятно далек, отдаленный незримой чертой небытия. В неярком, но светлом просторе зала пахло от обрамления венков теплой хвоей, и, не смолкая, где-то в смутной вышине, горестно и нежно печалились скрипки.
Читать дальше