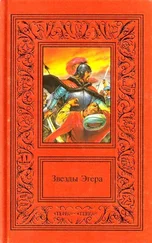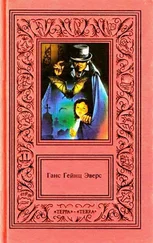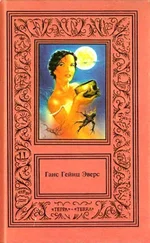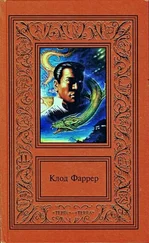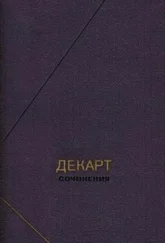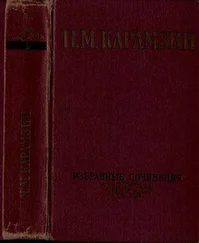Он кивнул Рубашкину, и тот легонько спрыгнул с подоконника, проскользнул вдоль стены к помосту. Братик подал ему руку, и, Васенька, словно подброшенный пружиной, взлетел и встал рядом с ним.
— Ну, шутоломы! — недовольно пробасил усач. — Хватит куражиться. Ты сам рассказывай, Отпетый, чего натворил?
Васенька небрежно передернул плечом.
— Вроде бы ничего грешного. Песни я пишу, Маркелыч. И не ждал, что поднимется такой шум…
Маркелыч норовом был зол и придирчив и резко оборвал Рубашкина:
— Ты не крути, не винти — песни! Рассказывай, как было, шалапут…
— Не бузи ты, папаша, доброму делу не мешай, — строго оборвал Маркелыча Ванька-братик и достал из тумбочки у окна пачку какой-то бумаги.
Он стал раздавать ее шахтерам, и к нему со всех сторон протянулись руки, а я не сразу рассмотрел, что это был журнал «Забой».
— Страница двенадцатая, — весело приговаривал Братик. — Читайте и запоминайте. Васенька и музыку обещает составить, а тогда, значит, вместе и споем!
Разрозненные журналы перепархивали над головами, как белые птицы, нарядная полнилась гулом удивленных голосов. Следуя примеру других, я выхватил журнал у кого-то из рук, взглянул на страницу и замер: с печатной страницы на меня смотрел Васенька Рубашкин! Был он такой же, как в жизни, как сейчас на сцене, чуточку насмешливый и нагловатый, а подпись под фотографией гласила: «Поэт — Василий Рубашкин, коногон с шахты „Дагмара“». Я успел прочесть первые четыре строчки его «Песни», а потом кто-то и у меня выхватил журнал. Эти четыре строчки мне запомнились и почему-то взволновали: не верилось, чтобы это он, Васенька Отпетый, после своей обычной суматошной смены находил вечерами время гулять на поселке, всматриваться в неяркую, но милую сердцу донецкую степь, подмечать летящие над нею трепетные зарницы, вслушиваться в переливчатые шорохи тополей.
Над шахтерским поселком моим тополя
И осколок луны, как стеклянный,
Пусть же знает отныне родная земля,
Что поэт я ее самозванный…
Да, это было открытие. И кто же, известный сорвиголова, коногон из самых шальных и бездумных, Васенька Отпетый открывал нам, своим землякам, огромный мир, согретый его доброй мечтой, мир красочный и заманчивый.
Нет, такого собрания на этой старой шахте еще не бывало: закопченные стены нарядной словно бы раздвинулись, дощатый помост неуловимо стал выше, а Рубашкин прочно, уверенно стоял на своей завидной высоте, расправив плечи, откинув голову, и его красный чуб трепетал, как густое пламя.
Был он прежним Васенькой и одновременно был уже другим. Это мы сами так приподняли его нашим удивлением. И когда он, осторожно приняв из чьих-то рук свою гармошку, сначала взял негромкий и задумчивый аккорд, а потом, прижмурив глаза, будто от солнца или словно бы вглядываясь в далекую даль, стал выговаривать в полураспев звучные и слаженные слова, откуда-то взялся солнечный зайчик и затрепетал на лицах. День был пасмурный, с тяжелыми глыбами облаков, и, может быть, он здесь и зародился, в толпе, трепетный солнечный зайчик, — ведь лица людей, это давно примечено, могут светиться и сиять.
Уже можно было бы поверить, что в человеке, в душе его свершилось чудо, — таким неожиданно высоким встал среди нас Василий и заслонил прежнего, озорного Васеньку. Но тот, Отпетый, никуда не девался и показал себя.
Гармонь вдруг зафальшивила, всхлипнула, захрипела, и Васенька, словно бы в крайней растерянности, опустил ее прямо на затоптанный помост.
Братик шагнул к нему в тревоге, взял за плечи, заглянул в лицо.
— Что, Вася, случилось? Сбился… забыл слова?
Рубашкин разнял руки и стал пятиться с помоста.
— Ничего не случилось… Все в норме. Нет, случилось… Это я вру, будто ничего не случилось, вру! — И он закрыл ладонями лицо.
Ваньке-братику не впервые было вести в нарядной «программу», но и он, бывалый боец, растерялся, а растерявшись, обозлился:
— Ты объясни народу, слышь, Васька? Ты же поэт, понимаешь, голова два уха, а чего замолк и рот раскрыл?
Рубашкин отнял от лица руки и молвил тихо, виновато:
— Потому, что плохо. И как же там, в «Забое», не заметили, что они у меня не доведенные, не собранные, стишки? Я их тут людям добрым читаю, а мне иное слово горло дерет. И не сердись, Братик, лучше правду скажи мне, ты… понимаешь?
Братик задумчиво опустил голову, одолевая какую-то трудную мысль, и, помолчав, сказал:
— Что ж, протаптывай дорожку далее. Ноги босые поранишь — не плачь. Тут, брат Васенька, ты сам себе и судья, и утешитель.
Читать дальше