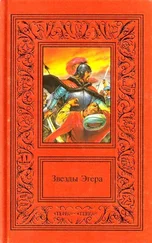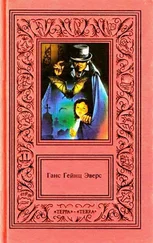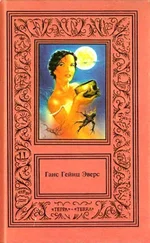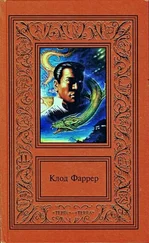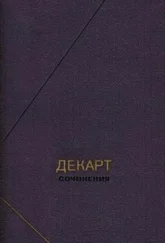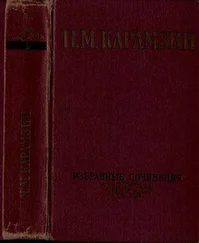— Когда же вы, Максим Фадеевич, успели прочесть рукопись?
Он небрежно махнул рукой.
— Вот кто умел работать — Горький! Да я он завидовал академикам Ольденбургу и Веселовскому! Кстати, Военному совету Шестой армии я написал письмо: это, если хотите, развернутая рецензия. Не знаю, согласятся ли военачальники с моими замечаниями? Так или иначе, а выправленную рукопись вы должны представить на их суд…
В Уфе я прожил неделю, но города почти не видел: работал над рукописью в уголке шумного офицерского общежития. Рыльский требовал все новых поправок, дополнений, сокращений: казалось, он знал этот текст лучше меня. Мне и раньше доводилось слышать о его огромной работоспособности, а теперь я убедился, с какой неистовой отдачей сил, забыв о смене суток, мог трудиться этот вдохновенный человек. А ведь, кроме привезенной мною армейской рукописи, у него было множество других дел, свои неотложные работы и десятки посетителей, тоже с неотложными делами.
В армию я вернулся с опозданием на целую неделю. Можно было сослаться на перебои в движении поездов из-за бомбежек, однако я не стал этого делать. Я передал рукопись и рецензию Рыльского в Военный совет и явился к своему строгому майору-редактору. Он сделал вид, будто не узнает меня. Еще бы! Ведь я задержался в командировке! Тогда я отыскал свободную хату и лег спать.
Утром меня разбудил незнакомый офицер, молча усадил в машину, и мы куда-то поехали. На окраине Волосской Балаклейки, что западнее Купянска, машина остановилась у крестьянского дома.
— Идите, — сказал офицер.
Я вошел в дом, осмотрелся. Из-за стола навстречу мне поднялся крепкий, подтянутый, седеющий мужчина. Здесь было не очень светло, и я не рассмотрел его погонов…
— Итак, прибыли? — спросил он негромко и указал на стул. — Садитесь.
Мы помолчали с минуту.
— Я прочитал рецензию и просмотрел рукопись, — сказал хозяин. — Вы поработали. Хорошо поработали… Благодарю.
Я встал и лишь теперь различил две больших звезды на его погоне: вот кто это был — командующий!
А генерал-лейтенант продолжал мечтательно:
— Нам бы такого в армию, Максима Рыльского! Умница… Все, до косточки, разобрал. Лишнее отсеял, важное, значительное сильнее высветил. — Он резко поднял голову: — Разрешаю трехдневный отдых с дороги. Позвоню редактору… Моя машина вас отвезет.
Я ехал сплошь изрытым снарядами полем. Постреливала дальнобойная противника. На луговине вставали и рушились черные столбы взнесенной снарядами земли… Я ехал, и письмо Максиму Фадеевичу слагалось само собой:
«Дорогой друг! Наконец-то я дома… Теперь Уфа кажется такой далекой, а вы по-прежнему рядом со мной»…
7. АРАБЕСКИ
Словно на киноленте, еще не смонтированной, разрозненной, в памяти возникают отдельные кадры и эпизоды, сквозь которые то грустный, то озабоченный, то радостный, но всегда увлеченный поэзией жизни и труда, проходит этот человек.
Впрочем, грусть и озабоченность были мало свойственны характеру Максима Рыльского, — они проскальзывали от житейских толчков и тряски лишь иногда. Но нельзя представлять его и этаким «розовым бодрячком»: он много думал о жизни, много читал, обожал и знал музыку, что называется, жил поэзией, болел в свое время Достоевским… Все же его любимыми героями были — он повторял это не раз — умудренные опытом жизнелюбцы — Кола Брюньон и аббат Жером Куаньяр.
К герою А. Франса Куаньяру Рыльский относился с доброй иронией:
— Суетный, но милый человек. Его ругают словом «эпикуреец». А ведь, если вникнуть в суть дела, слово это не ругательно: антирелигиозное этическое учение Эпикура основано на разумном стремлении человека к счастью. Правда, в буржуазной литературе это понятие извращено, сведено к личному удовольствию и чувственным наслаждениям, в чем, однако, нисколько не виновен Эпикур.
Мы сидели в скверике у Золотых ворот: после веселого летнего дождика день был совсем серебряный от солнца, от блеска окон и крыш, от сверкающего асфальта.
Знаменитый с детства математик, внешне еще совсем молодой, академик Боголюбов и седой бородач, много странствовавший, лично знавший Жорреса — Всеволод Чаговец, являли собой резкий контраст. Боголюбов выглядел рядом с Чаговцем мальчиком, но этот «мальчик» был удивительной копилкой знаний, ученым с мировым именем.
Настроение было «философское», говорили о жизни, о Вселенной, а Рыльский, не вмешиваясь в разговор, с интересом слушал, жмурясь от солнца.
Читать дальше