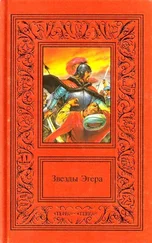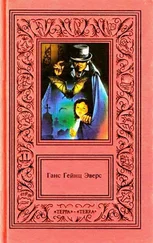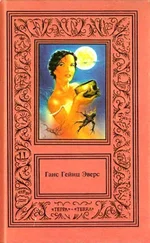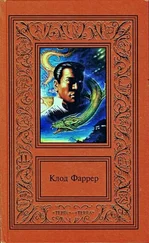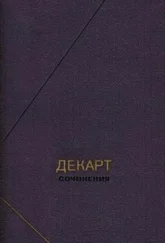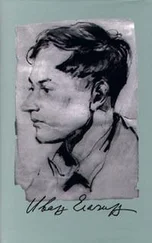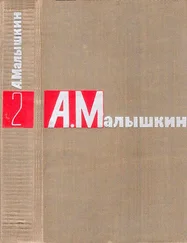Я хорошо знал этот клуб, эту сцену, на которой, что ни вечер, чинно восседал президиум, а докладчики сыпали цифрами угледобычи, поставок крепежного леса, откачки воды из шахт, снабжения обувью и спецодеждой… Это были привычные, большие и малые житейские дела, и собрания проходили то шумно, то скучно, то яростно. Круг вопросов был здесь заранее и надолго определен примелькавшимся понятием «специфика угледобычи».
А сегодня с этой сцены такой же, рабочего облика оратор говорил о стихах, о лирике, о пленительной силе взволнованного слова.
Нет, «специфика» из этого зала не ушла, она и не могла отсюда исчезнуть, но в тот вечер забои, штреки, бремсберги, квершлаги шахт, всю подземную ниву шахтерского труда вдруг осветило изнутри взволнованное слово песни.
Донбассовская песня-частушка слагалась в нарядных шахт, на эстакадах, на откатке, где пели о жизни своей, о радости, кручине и мечте звонкоголосые девчата-откатчицы, и была она, песня, то доброй советчицей, то веселой насмешницей, то ласковой надеждой.
О силе народной песни говорил Максим Рыльский, и, удивительное дело, те самые строки песен, которые я слышал в Донбассе не раз, теперь, когда он медленно, четко и звучно цитировал их, словно бы играли новыми, неприметными ранее гранями, раскрывались неожиданной глубиной мысли, тревожили потаенными струнами чувства.
Стихи Максима Рыльского я знал с детства, знал не заучивая, — они сами просились в память. Его замечательную «Ганнусю» я впервые услышал в Привольном, на старой шахте «Корунд»; вечером, на притихшем берегу Донца, так слаженно и легко ее пели под баян девчата. Кто положил на музыку еще в тридцатых годах в Донбассе эти задушевные слова — я до сих пор не знаю. Наверное, какой-то безвестный композитор, из тех безвестных, чьи песни живут и живут. Она просилась на музыку, улыбчивая, добрая и печальная, и кто-то, отзывчивый, расслышал это и нашел «ключ»… А тогда, в рабочем клубе, слушая поэта, я понимал, что он открывает нам, молодым, познанные любовью и трудом неиссякаемые истоки поэзии, и что этот живой родник — в мудром, жизнеутверждающем поэтическом творчестве народа.
Это был большой литературный семинар, который продолжался и в кулуарах, и за обедом, за ужином, и на следующий день. Вернее, то был праздник литературы: им жил весь город шахтеров и металлургов.
Мне, право, и не мечталось увидеть и услышать, да еще здесь, дома, в скромной, привычной обстановке, признанных мастеров слова, чьи книги вводили меня в жизнь и потому сами словно бы стали неотъемлемой частью моей жизни.
Теперь не верится другому: что с той памятной донецкой осени прошли, прогремели три с половиной десятилетия — великое время трудовых и ратных дел. Но таков он, как видно, «фокус» памяти — кадры отдельных событий хранит она в полной чистоте.
Я вижу и сейчас, как на сцену неторопливой, тяжеловатой походкой поднимается Алексей Толстой, приглаживает шевелюру, пристально всматривается в зал. Он говорит, что рад навестить Донбасс — кочегарку высокого творческого накала и новаторства…
Окруженный молодыми шахтерами, рассказывает о своей работе над новеллой И. Бабель. Впрочем, он меньше говорит, а больше слушает: у него подчеркнутый интерес к собеседникам; быстрый, цепкий, веселый взгляд из-под стекол очков, а смех искренний и заразительный.
Литературовед Д. Мирский читал доклад о творчестве Льва Толстого.
Высокий, лысеющий человек говорил по-юношески увлеченно.
Рядом со мной сидел поэт Кость Герасименко. Необычно взволнованный, он тихонько шепнул:
— А знаешь, какое у меня чувство? Нет, не догадаешься. Зависть!
— Почему зависть?
Кость грустно улыбнулся:
— Сколько знаний в этой умной голове! Восьмью языками владеет. Историю — назубок. Поэзию — назубок. Ты читал его книгу «Интележенсиа»?
— Конечно. И высокий отзыв Горького читал…
Кость глубоко вздохнул:
— Мне бы такие, брат, знания!
— У него были другие условия для учебы.
— Верно. Гувернеры, наставники, педагоги, Рюрикович, «великий князь». Но ведь порвал со своей средой и с прошлым, и стал коммунистом, и нам с тобой свои знания принес. Однако об «условиях»: Горький не знал гувернеров. Я хочу сказать, что и у нас есть наставники: жизнь, люди, книги.
— И живое слово такого умницы, Кость, — незабываемый урок.
Он согласился.
— Живое слово… Знаешь, мне повезло. Всю прошлую ночь, почти до утра, я беседовал с Максимом Рыльским.
— Читал его стихи?
Читать дальше