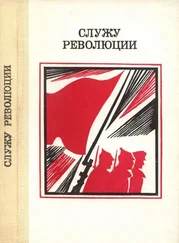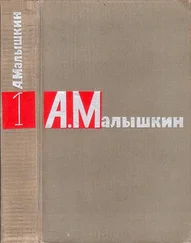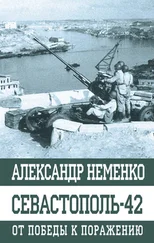Зал встал на дыбы, задвигал креслами, нетерпеливо задышал.
— Где? Где?
— Поднять повыше, просим!
Шелехов, горя глазами на одного Керенского, дергался, топал ногами.
— Выше!
Адмирала, неловко скорченного, подняли на сцену.
Стоял, спиной к занавесу, широкотелый, с птичьим клювастым лицом, восточные глаза с обеих сторон клюва смотрели умно и строго, ибо и над этой разнузданной, слишком вольной для господ офицеров атмосферой (доклад небывалого во — ен — ми — на!) — железный престиж высшего водителя, командующего флотом — должен быть, должен быть непоколебим — вот я, Колчак!
Он что‑то холодно и с достоинством сказал это был шепот среди гула, он не хотел всею грудью…
А зал разломался, грохнул, жилящиеся горла корректных орали, задыхаясь в воротничках:
— Ррра — а!..
И громче всех пожилые, в бакенбардах прошлого века, орденные, со складкой морской и военной бывалости у губ, пережившие «Потемкина», пятый год, Цусиму, вросшие по плечи в свое, каменное, — они знали: это, это адмирал!
С бешенством преданности, раболепно притискивая руки ко швам, выкатывая проалкоголенные, пухлые глаза, кричали…
И бело — золотой сутолокой уже хлынуло к дверям, потопив в себе Колчака, Керенского, залы, коридоры, — уже там, в спершейся толпами ночи, изжаждавшиеся матросы подхватили Керенского на руки и понесли над бурей взвывающих ртов. Ночь стояла возбужденная, неспокойная, бледная насквозь от фонарей, музыка гремела с бульваров. На бульварах, на перекрестках толпились летучие митинги, зеваки бродили около, налипали, лезли друг к другу на спины. Где‑то вдруг шарахнулось, рассыпалось, дико затопало вдоль мостовой. Народ бежал, улюлюкал.
— Что это?
г — Да тут какой‑то субчик за Ленина расстилался. Присмыкайтесь, говорит, товарищи, к большевикам, а не к Керенскому, у него, говорит, стачка с буржуазией! Помяли маленько…
— А кто, матрос?
— А что же — матрос. Не может, что ль, любой шпи- ен форму надеть! Он по футляру‑то матрос, а на деле… Таких бы… балластину к ногам да в воду.
И матросы, матросы, матросы наводняли бульвары, взлобья Малахова кургана, дорожки Исторического, откуда — если глядеть вниз — огоньки порта, движущихся шлюпок, улиц намечали темную громаду моря, города, всей ночи; сцепившись, сжавшись тесно с подружками, парами шли в глухие проулки, на берега загородных бухт — там уже степь пахнет пронзительно чебрецом и гниющими порослями прибрежий, там садились и ложились в траву, на землю, теплую, как тело. Горели огни театриков, кофеен, оркестры исходили бешеной грустью. Сладким удушьем, блудом раскидывалась ночь Севастополя, флота…
Позже из апартаментов военного министра, рядом с Морским собранием, вышли адмирал и свита. Почетный караул приветствовал их вытянуто и четко. Адмирал бегучим шагом своим пересек площадь, моторный катер принял его под ступенями Графской пристани, помчал торопливо через черный рейд. На силуэтной громаде «Георгия — победоносца» собрался весь штаб, ждал: командующий вез от главы Временного правительства боевую директиву.
Шелехов разнеженно развалился в полотняном кресле, под бульваром, жмурясь от солнца.
Время было служебное, но мичман, приехав в город почти с утра, не торопился возвращаться в бухту. Нарочно выпросил у Бирилева поручение в порт. Нарочно медленнее шагал от катера к пристани, нарочно переправлялся через рейд не на моторке, а нанял обветшалого старика яличника. Медленность эта была насильственная, ознобно — сладостная, почти беспамятная… Покончив с делами, обрадованно вспомнил, что ведь может еще нечаянно встретить на улице Жеку и с ней провести два — три часа где‑нибудь у моря. Тем более что, как он ни рвался, ни разу не мог увидеть ее с того сумбурного воскресенья: вахта, приезд Керенского, знакомство с «Витязем» и с новыми своими обязанностями отняли почти все вечера. Так и оставалась в памяти загадочным, насмеявшимся над ним куском подвальной темноты; и по ночам, разгадывая ее и не в силах разгадать, вскакивал на одинокой своей койке, ширя глаза в мрак, вопрошая кого‑то, трепеща тоскливым хотением… Кто же она, Жека?.. Он спустился на Нахимовскую и несколько раз шагал улицу из конца в конец (даже коленки заныли от утомления), осторожно, словно из‑за укрытия, прицеливаясь глазами во все стороны из‑за спин деловито бегущих дневных прохожих.
Нет. Жеки не было нигде…
Пекло нестерпимо, раскаленная листва бездыханно обвисла за бульварной оградой. Из‑под домов зноем вымело последнюю тень. Только море, встающее неотвратимо меж деревьев, играло освежительно своей зеленью, бегучими звездистыми огоньками. Чтобы убить время, купил какой‑то журнал и так же медленно, словно нехотя, свернул в ворота бульвара. Нехотя! А ведь у самого клокотало — бежать, нет, пролететь над морем эти шесть верст до бухты, камнем упасть там в ревучую, митингующую толпу. «Ну, что, товарищ? Кого?»
Читать дальше