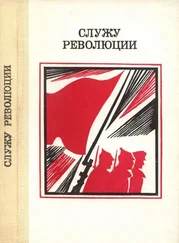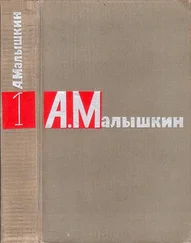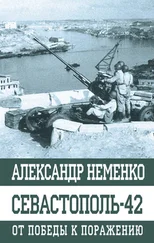Где‑то повторилось старое ощущение своей мешковатости, ненужности. Толпа влекла его к себе, как чужеродное тело.
Он отошел, полежал грудью на каменной ограде над морем. Он все‑таки чего‑то еще ждал. Зачем на Нахимовской остановился с Мерфельдом и не догнал ту до конца? А может быть, то была и не она? Многие, что проходили мимо, шепча и звеня смехом, были похожи на нее, но он уже не верил. Это его сбивали с толку серые платья сестер милосердия, в которых все женщины казались одинаковыми. Уже потихоньку уставал верить в невозможное.
И вдруг она прошла мимо.
Да, она, вагонная спутница, и в том же сером платье, в каком он увидал ее впервые. Она не спеша, не сопровождаемая никем, поднялась по ступенькам от моря, и была самая спокойная естественность в этом необычайном, потрясающем появлении. Едва ли она даже не позевывала. И, может быть, потому Шелехов и не ринулся к ней бурно навстречу, как представлял себе тысячу раз в мечтах, а только нерешительно загородил дорогу.
— Это вы? — мог лишь он пробормотать. — Вы?
Девушка остановилась, вглядывалась в него, от неожиданности прижав ладони к груди.
— А — а, милый спутник! Ну, вас не узнать. Где же вы до сих пор пропадали?
Он не мог сразу собрать своего тела, мыслей, слов. Сам не помнил, что бормотал в ответ на ее играющий щебет. Растерянно позволил взять себя под руку, кого‑то неуклюже толкнул, кому‑то наступил на ногу.
— Меня зовут Жекой. Идемте, выйдем из толпы. Я еще должна вас хорошенько поблагодарить, прапорщик, за ту честь… помните?
Она повлекла его в темные, беззвучные гроты листвы, где‑то по ту сторону жизни.
— Жека, а вы в эти дни хоть раз вспомнили меня, вагон? Или это такие пустяки?
Они сидели на скамье в аллейной нише, полной глухоты и мрака.
Девушка клонилась к его лицу, лукавая, готовая тотчас отпрянуть, брызнуть смехом.
— А как по — вашему?
Ему кипуче захотелось рассказать ей всю жизнь с изначальных самых дней, об одиночестве, о смутном предчувствующем пути, которым шел к ней, о возвышенном значении их встречи. Удерживал ее подсмеивающийся, легкомысленный тон. Вместо этого говорил об университете, о Петрограде, о корабле. Узнав, что Жека была художницей, мечтала о Строгановском, работала на фронте сестрой, но непорядки в легких заставили ее вернуться в Севастополь, к морскому воздуху, Шелехов вдруг набрался храбрости, нагнулся и погладил пальцем ее теплую тугую ногу.
— Помните, Жека… в ту ночь я спал щекой вот тут. Это была невероятная ночь. Но вас… это не стесняло?
Девушка не ответила, убаюканно покачиваясь и напевая с закрытым ртом. Он счел это за поощрение. Его наполнило самое сладостное в жизни, невыразимое тоскование. Но ее… ее покорности он не понимал. И уже становилось жутко за то, что он делал, и за то, что хотел делать дальше, как Жека вдруг соскочила со скамьи и закружилась с издевательским хохотом:
— А вы слыхали, как инкерманские лягушки квакают?
— Жека, какие лягушки? — умолял он, ловя ее за руки, не желая просыпаться.
— Идемте, идемте, вам вредно уединение.
Опять в кругу над морем шла толпа, в которой стало теснее и как будто тише: люди кружились в бесслов- ном забвении. Море смутно просветлело; лег знакомый сказочный путь звезды.
Не твой ли путь, прапорщик Шелехов?
Потом спустились к морю, гуляли вдоль берега по гранитной дамбе, о которую плескалась теплая влажная тьма. Плескалась и отбегала и вдруг билась о край с глухим взрывом, взметывая к звездам водяной смерч, под которым, повизгивая, пробегали женщины. Должно быть, далеко в море был свежий ветер, к берегам Севастополя гнало мертвую зыбь.
Жека лукаво и ожидающе молчала, нет — нет да и поглядывала на прапорщика из‑за плеча. Нужно было говорить, болтать, а он не мог ничего придумать: молчал и любовался ею до самотерзания, до отчаяния. Да и понятно: он никогда еще не видел рядом с собой таких женщин, интересных, с изящной поступью, на нее даже в темноте встречные оглядывались и провожали взглядом. А от этого еще больше вязала зябкая, малодушная робость… Чтобы не молчать, задавал разные неуклюжие, неуместно деловитые вопросы вроде того: «что это за здание?» или: «у вас всегда в Севастополе так много гуляющих на бульваре?» или: «кажется, и у вас, в Севастополе, белый хлеб тоже исчезает с рынка?..» И самому становилось стыдно. О, было бы совсем другое, если бы вместо него шел один из статных напроборенных лейтенантов или мичманов, умеющих непринужденно создать между собой и женщиной атмосферу любовной игры, пустых, но значительных словечек, вкрадчивых касаний!.. Он малодушно сдавался заранее, хотя мог дать ей в тысячу раз больше, хотя судьба его восходила блистательно…
Читать дальше