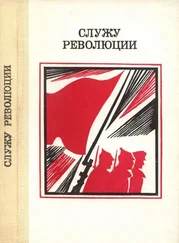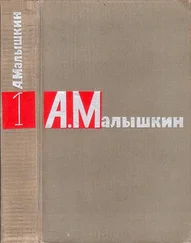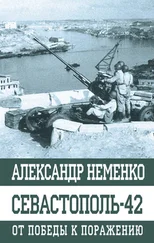— «Георгий»… гидрокрейсер, — признал Маркуша. — Наверно, в Батум. Хорошо на нем братве живется: плавают да приторговывают!
— А вы, Маркуша, в дальнее плавали?
А сам глаза полузакрыл, будто и его качает волна на «Георгии»… Смотри, вон исчезают ставшие ненадолго родными берега, жилое нагромождение города, зелень бульваров. Кругом вода, неоглядная, бегучая, недавно плескавшаяся у иных материков… Может быть, в самом деле там лучше, чем на земле, где надо быть колючим, напрягаться, натужно прорываться день и ночь к какой‑то непрочной, для самого еще плохо очертанной цели?
Маркуша всласть рассказывал:
— Эх, хорошо с пенькой в Австралию ходили! Вышел тогда у меня на Малайских островах один печальный случай. Пошел я прогуляться, вдруг ливень. Тропический ливень, это, шут его возьми, сразу сумерки кругом, хлещет, как из шланга, вода парная, теплая. Стал я, конечно, под деревце какое‑то. Шут его знает, как оно называется, листья во ширины, по сажени длины и прямо от корня растут, потом загинаются чуть не до земли, а под ними тепло и темно, как в бане. Я — под эти листья. Слышу, кто‑то рядом еще стоит. Зажег спичку, — оказывается, малайский бабец. Да какой, смак! Вся голая, только под пупом вроде бахрома, для видимости. Ну, ясно, раз голая, да дикая к тому же, да дело в лесу — я ее моментально цоп. И что же думаете? Кэ — эк она развернется да стебнет меня по морде!
Шелехов делал сочувственную улыбку:
— Да что вы!
Маркуша совсем зажурился, обковыривая грязными ногтями какой‑то камешек:
— Вообще, Сергей Федорыч, нет мне в жизни лафы. И теперь вот затирают. Кому прапорщика дали, а мне — зауряда. Оттого что образования не имею…
Видимо, он и за Шелеховым всюду следовал и разговор с ним завел с какой‑то давно задуманной целью.
— А скажите, Сергей Федорыч, алгебра, што это такое? Трудное?
— Да как сказать… Если постепенно, — ничего.
— А про чего в ней учат?
Шелехов не успел растолковать — из рощи торопливо приблизился боцман, деловито откозырял:
— Господин прапорщик, так что постановили выбрать делехатами ваше благородие, Зинченко и Фастовца. Теперь пожалте к старшему офицеру, там дадут ахтонобиль до городу.
— Спасибо, я сейчас… — Шелехов вскочил, жал руку боцмана, преисполненный кипучей, невыносимой доброты. — Сейчас, товарищ…
— Бесхлебный — с! — подсказал боцман, опять статно откозыряв. — Очень рады постараться для такого господина прапорщика. Право слово, когда вы говорите, душа заворачивается, так и пырнул бы кого‑нибудь!
И на берегу один Маркуша покинуто остался, навернув загадочно козырек на самые глаза. Выковыривал камешки из тины, бросал, песню, неведомо какую, нахныкивал. И руки у Маркуши дрожали.
Старший офицер встретил Шелехова приветливо:
— Садитесь, Сергей Федорович, автомобиль уже налаживают. Вы знакомы… с другим делегатом?
Долговязый матрос в синей кочегарной рубахе неуклюже и усмешливо ответил на рукопожатие. Так вот он какой, Зинченко! Лицо со светлыми, седыми ресницами, красное, выпаренное угляным жаром. И руку не сразу выпустил, потискал сначала неловко, конфузливо, словно благодарил.
Милый человек, Лобович, угощал особенным табачком:
— Настоящий, выдержанный, теперь на редкость. Знакомый татарчук с Южного берега привез. Как?
Матрос затягивался с озорноватой усмешечкой:
— Табачок ничего себе… Офицерский!
Лобович, чувствуя соленую издевочку, хлопал Зинченко по колену:
— Хо — хо — хо!.. Совсем вас Петроград, Зинченко, того… Как‑нибудь, посвободнее будете, загляните ко мне, побалакаем.
— Я вот что спросю вас, Илья Андреич, — с тем же усмешливым миганием вкрадчиво обратился к нему Зинченко, — зачем мне капитан Мангалов такой шкентель завязал?
— А что такое?
•— Ну, не знаете вы! А зачем он, пока я ездил, на «Витязь» меня списал? Три года на «Каче» хорош был, теперь нет? Наверное, думает: на плавающем, дескать, подальше от команды. Так скажите ему, Илья Андреич, что теперь зажать рот матросу все равно никак невозможно.
Старший офицер вдумчиво пыхтел трубкой, колебался, не находил, что сказать.
— Знаешь что, Зинченко… — незаметно для себя перешел на «ты», видать, более привычное, — знаешь, плюнь ты на это дело. Зачем лишний тарарам заводить? Слыхал, что Скрябин говорил? Не время теперь, братишка, не время!
Зинченко косил глаза в пол, посмеивался.
Мотор рвано затрещал на берегу. Фастовец уже щерился там, вскидывая глаза вверх, ожидая спутников. Новенькая синяя форменка на мужицких костях его сидела нелепо, франтоватым пузырем. В движениях и на лице обозначалась истовая торжественность.
Читать дальше