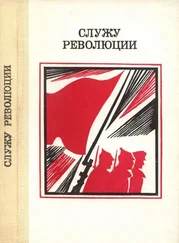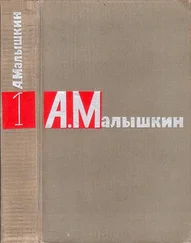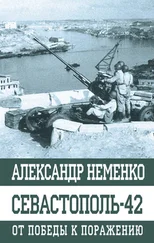— Эй, ты чего там, братишка?
Офицер с бьющимся вскачь сердцем стыдливо высвобождал руку:
— Кажется, товарищ Зинченко?
— Он самый.
Достигнув кормы, в знак признательности полез за папироской.
— Вы, конечно, уже знаете, Зинченко, насчет флотилии? По — моему, это правильно: «Джузеппе» вполне дойдет. Только как наша команда — желает?
(А сам корчился: «Зачем я задабриваю, подличаю, ведь не о том же хочу сказать…»)
Зинченко охотно прикуривал из его рук.
— Откроем запись добровольцев, вот увидите: драка из‑за этого даже может получиться. Эх, теперь матрос кипит!
— Этих господ, Зинченко, которые сидят за Калединым, я знаю: они нас, студентов, при Николае рубили шашкой за один непонравившийся взгляд. Там, Зинченко, сидит опасный зверь.
И опять не то и не теми словами высказывал, что чувствовал: надо было бы о цветковых глазах, из которых протекал сладковатый угар по всей земле, по всей его жизни. Цветковые глаза и радужно слезящиеся невские фонари… Обреченная Атлантида… Да про это Зинченко и не следовало, пожалуй, знать; ему едва ли бы оно пригодилось. Но все‑таки нужно было заставить его понять, что У них общий враг. Багровый, как вывороченное наизнанку мясо, есаул свирепствовал в памяти Шелехова, точно все происходило вчера, оберегая свой блуд и свое право презирать и повелевать сволочью. Он был уже не бессилен теперь, не повержен, как там, среди бушующей солдатни. Он издавал из Ростова удушливый виселичный запах.
— А не будь бы этой заторы, товарищ, мы бы свою программу большевиков давно бы по всей России провели. Не дают драконы ходу социализму.
— Социализму? — переспросил Шелехов.
До сих пор не мог вникнуть в смысл этого слова, оно оставалось для него одним звучанием — ширококрылым, полным неопределенных ослепительных просветов и нежилого холода.
— Социализму? Я ведь говорил при вас, Зинченко, один раз по душам: все‑таки это дело трудное. Дело многих десятилетий, а то и столетия, может быть…
— Вот так раз! — недоверчиво хихикнул Зинченко. — Какое же трудное? Взять да по всей России одну резолюцию вынести! Какое же трудное? Теперь вот, конешно, эти гады помешали: значит, отсрочка, накинуть еще… ну, от силы три месяца, полгода!
Шелехов втайне, про себя усмехнулся… Но сейчас было не до спора, следовало воспользоваться случаем и развязать то, что оставалось неразвязанным с того октябрьского дня. Теперь, после похода «Джузеппе», после сегодняшнего севастопольского вечера все равно бригадная тишина была разорена.
— Погодите‑ка уходить, Зинченко… Помните, у нас был разговор о переходе бригады в город. Так вот… если хотите, я могу поднять об этом в бригадном комитете.
Зинченко остановился.
— Да что поднимать, не к чему теперь поднимать, — лениво отозвался он.
— Почему? — встревожился Шелехов.
— А? — не то дурашливо, не то рассеянно переспросил Зинченко и с тем исчез в темноте.
А ветер жесточал к ночи все больше и больше, все полоумнее обвывая борта тральщиков, переваливая их с боку на бок, со скрежетом наструнивая якорные цепи, — неведомо какое беснованье и жуть творились в ту ночь на море, в какой‑нибудь сотне саженей от жарко натопленных, парных, освещенных ясными тюльпанчиками кают, и сон по каютам от этого был особенно уютный, зябкоподжим- чивый, как при недомоганье.
И чуть ли не с рассветом начали выбегать на палубу самые охочие из городских гуляльщиков — посмотреть, а заодно и помочиться спросонок за борт… Смотреть было невесело. Море мчалось за бухтой, как побоище, темное, дико расхлестанное, все изрытое бешено плясучими смерчевыми буграми. Неслышно и тошно кружились разъеденные холодом берега, низкое небо, палубы. Клочья дыма отрывались от туч, неслись над пучиной потерянными птицами… Гулялыцики с матерным причитаньем, пиная ногой что попадалось на пути, валились обратно в кубрик.
Опять заперло бригаду в нежилых берегах, отрезало от бульваров и кофеен — на сколько еще дней?
Для верхнего начальства, конечно, по — прежнему гоняли автомобиль в Севастополь — и утром и вечером. В машине восседали лейтенанты Скрябин и Бирилев (третьего начдивизиона — Дурново, из‑за слишком памятной фамилии, сплавили в какой‑то захолустный отряд тральщиков). Мангалов, еще более распертый вширь, занимал сразу два сиденья. Иногда к начальству примащивался Блябликов. Рокот автомобиля, возлетающего вечером за сумрачные херсонесские нагорья, грустно раздражал, подмывал бежать вслед — в шумы, огоньки, в интересные передряги и волнения города… А в бухте — что оставалось делать? Только спать до ломоты в глазах, дуреть от однообразного ветряного воя. Штормом сбило последнее зеленое оперенье с сиреньки, качался на пригорке голый прутяной ворох.
Читать дальше