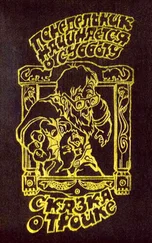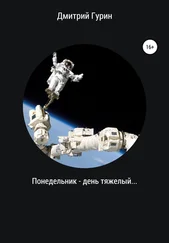— Сейчас вспомнит Фастовского, — предупредил всезнающий Лавочкин. — Слушайте!
И действительно, Ерикеев вспомнил:
— Я вижу перед собой лица юных друзей. Я вспоминаю, как я много, много лет назад с душевным трепетом входил в мастерскую незабвенного моего учителя и друга Фастовского…
Пока Ерикеев предавался воспоминаниям, Вася Каблуков искал глазами Володю Сомова. Он увидел его рядом со Стеблиным. Хотя Леон Аполлинарьевич и не являлся членом союза, он гнушался сидеть с юными активистами и устроился поближе к маститым — заработки давали ему право чувствовать себя с ними почти на равной ноге. Позади Стеблина рыжели бакенбарды Латышева.
Вася попытался пробиться к Володе, но кругом зашикали, а Лавочкин снова предупредил:
— Сейчас измолотит Бодряева!
И действительно, оратор принялся за автора «Кваса-батюшки»:
— О теме я ничего худого сказать не могу. Тема народная. Как известно, квас — напиток национальный. Дело не в квасе. Дело в композиции. Все вы помните полотно «Пшеница-матушка»? Чем же композиция «Кваса-батюшки» отличается от «Пшеницы-матушки»? Да ничем. Бодряев просто выкосил центр пшеничного поля почти до самого дерева и посадил на жнивье всех охотников перовского «На привале»» переодев их в пиджаки, сшитые в артели «Краюхинская швея». Правда, у Перова четыре фигуры…
— Считать надо уметь! — крикнули с последнего ряда. — У Перова три фигуры, а не четыре.
Ерикеев язвительно усмехнулся.
— Три, говорите? А прекрасная охотничья собака куда у вас сбежала? — И победоносно продолжал: — Так вот, у Перова четыре фигуры, из которых, как я уже объяснил, одна — великолепная охотничья собака. А у Бодряева семеро и ни одного сеттера. Самый пожилой из переселенных Бодряевым в эту старую, знакомую с детства композицию пьет из жбана квас…
— Сейчас рикошетом по Дормидонтову ударит, причем беспощадно, — объявил Лавочкин. — Ну, держись, Макар!..
Ерикеев грустно продолжал:
— И вы, дорогой товарищ Дормидонтов, такой большой, такой тонкий мастер, назвали эту… я не нахожу слова… картину серьезным достижением. Непонятно! Какие душевные мотивы двигали вами? Я же не могу поверить, дорогой мой, что вы ничего не поняли. Вы все поняли. Все. Да, все!
Ерикеев поднял руку над головой:
— Авторов таких произведений надо бить муштабелем…
Председатель постучал по графину карандашом:
— Прошу, товарищ Ерикеев, неудобопроизносимых слов не употреблять…
— Извиняюсь, — поклонился Ерикеев. — Не буду. Но, по-моему, муштабель — слово вполне удобопроизносимое…
— Последний залп, — сказал Лавочкин, пробираясь к выходу. — Сейчас кончит.
Ерикеев галантно поклонился:
— У меня все. Я кончил.
Председательствующий постучал по графину карандашом и объявил:
— Слово имеет критик Татьяна Муфтель! Прошу не расходиться…
Просьба была явно излишней — в зале осталось не больше десяти человек, главным образом неофитов с передних рядов.
Критик Муфтель, маленькая, пухленькая, с гладко причесанными волосами, поправила тяжелые, спадавшие с носа очки, подняла короткую руку с маленькой ладонью и торжественно произнесла:
— Ушедшие пожалеют. Я буду говорить правду в глаза!
Васе очень хотелось послушать правду, но его поманил Володя Сомов:
— Пойдем в буфет… Там интереснее.
В буфете было полно. Преобладали маститые и гости. Только пробрались к стойке, как к ним подошел Леон Стеблин:
— Вы из горпромсовета? Случайно, не меня разыскиваете?
В глазах у него блеснул плотоядный огонек: «Может, заказ?»
— Совершенно верно, — охотно сообщил Вася. — Хочу поговорить на тему «Искусство и жизнь». Как вы думаете, дадут мне слово?
— Дадут. Я постараюсь….
Голос председательствующего, усиленный радио, звучно произнес:
— Объявляется перерыв! Просьба собраться в срок.
Бывает на собраниях, особенно на отчетно-выборных, такой момент, когда говорить больше уже не о чем: все высказано предыдущими ораторами, все выяснено, все освещено и пора бы переходить к принятию резолюции — «Считать работу удовлетворительной».
Но в президиуме шепчутся, качают головами: «Мало было критики!», «Как бы нам того, не всыпали за излишнюю оперативность!», «Хорошо бы еще человека два выпустить, послушать».
Но желающих выступить нет. И тогда председательствующий, еще раз пошептавшись направо и налево, приветливо улыбаясь, говорит:
— Объявляется перерыв!
Участники собрания шумно идут в буфет, в курилку. У них заслуженный отдых. Но нет отдыха руководителям собрания, и даже не столько им, — они еще найдут время проглотить за кулисами бутерброд и опрокинуть в себя бокал номенклатурного напитка боржоми, — сколько помощникам руководителей, так называемому «аппарату».
Читать дальше
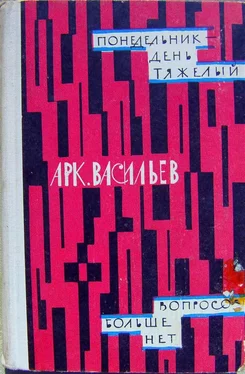



![Аркадий Васильев - Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет [Авторский сборник]](/books/25082/arkadij-vasilev-ponedelnik-thumb.webp)