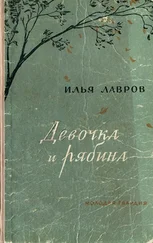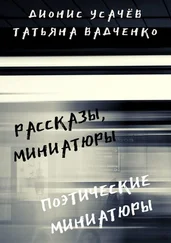И снова замолчали.
Клара Евгеньевна смотрела на жиденькую, северную зарю, которая, видно, так и будет тлеть всю ночь. А Таня смотрела на Клаву Евгеньевну. «Нелегко ей быть спокойной… Не хочу я всего этого, не хочу…» Вспомнилась дележка имущества вот в этой самой комнате, за этим самым столом. Таня зажмурилась, а в душе у нее будто что-то хрупнуло — стало больно и страшно. Николай, ободряя, незаметно погладил ее руку.
Клара Евгеньевна снова торопливо заговорила о детстве сына:
— Помню, Коля, понюхав обертку от туалетного мыла, произнес: «Эта мыла — она пахнет страшным воздухом».
Николай и Таня деланно засмеялись. Сергей Вавилович крепко опьянел от спирта; о чем-то думая, он тяжело и медленно качал головой.
— Я, конечно, не в курсе ваших отношений, — неожиданно громко заговорил он. — Но пусть у вас все будет по-людски… Уважайте друг друга, любите!
— Папа, — хотел остановить его Николай, но отец отмахнулся.
— Главное, нужно в человеке видеть Че-ло-ве-ка! Тогда не будешь, не сможешь топтать в нем душу.
Таня страдающими глазами посмотрела на Сергея Вавиловича. Николай выключил транзистор, опять загремевший джазом.
— Ладно, ладно. Успокойся, — в тишине попросила Клара Евгеньевна.
— Я же тебя на руках носил! — Сергей Вавилович ударил по столу кулаком. От этого удара «бочонки» подпрыгнули все как один. — Пылинке не давал упасть на тебя. И вот — нате вам!
«Зачем он все это говорит! — мучилась Таня.— Сам себя унижает. Есть вещи, о которых лучше молчать».
— К чему сейчас заводить этот разговор? Это все только нас с тобой касается, — мягко и тихо увещевала его Клара Евгеньевна.
— Нет! Не только нас. Им — жить!
— Ладно, папа. — Николай поднялся. — Идем, идем. Мы с тобой еще как следует не толковали. — И он увел отца в спальню.
Таня молчала, не зная, о чем говорить. Клара Евгеньевна отодвинула тарелки, положила крупные, красивые руки на стол.
— Вот так-то, — наконец тяжело вздохнула она. — Жизнь она и есть жизнь. И чего только в ней не нагорожено.
Таня тоже отодвинула тарелки, пепельницу — стеклянное блюдце с застывшими внутри стекла пузырьками — и тоже положила узенькие руки на стол, сцепив их замком.
— Жили мы с мамой плохо, — устало заговорила Клара Евгеньевна. — Война, голод… Раздеты, разуты. Отец на фронте. А тут Сергей Вавилович приметил меня, девчонку восемнадцати лет. Махнула я на все рукой и вышла замуж, хоть он и был старше меня… Ну, жила и жила. Платья были, а любви не было. Теперь вот ухожу. Полюбила человека и ухожу. Сына я вырастила, поставила на ноги. Зачем же смотреть на меня как на преступницу?
— Да нет, почему же вы преступница? — прошептала Таня. — И все-таки не хочется, чтобы случалось такое, — совсем по-детски призналась она. — Внутри как-то все против.
— И правильно, что против… И пусть никогда с тобой подобное не стрясется… Не так-то просто решиться на такой шаг…
Помолчали. Таня почувствовала что-то вроде теплоты к этой женщине, даже не сказавшей, что она берет чужих детей.
— А что же вы с Колей… Какие у вас планы? — осторожно спросила Клара Евгеньевна.
— Не знаю… Мы… — И неожиданно для самой себя сказала: — Просто Коля пригласил меня посмотреть Нарым. — И сразу же после этих слов почувствовала странное облегчение, на душе даже повеселело…
3
Потом Николай повел ее на Обь. Они тихонько брели окраиной. Спали среди белой ночи бревенчатые домишки, похожие на бани. На огородных плетнях сушились рыбацкие сети, у изб лежали опрокинутые старые лодки. Прибрежный переулок был усеян рыбьими головами и перламутровой чешуей. Донимали комары. Они просто уже начинали заедать. Таня застегнула пыльник, набросила на голову пестрый платок, завязала его под подбородком, закрыла и лоб и щеки.
— Тут всюду, среди тайги, киснут болота. С них и валит тучами гнус, — объяснял Николай, как-то настороженно присматриваясь к ней. — Охотники и рыбаки надевают на лица сетки, смоченные дегтем. У новичков от укусов лица опухают.
Таня даже вздрагивала от омерзения.
По съезду спустились на берег Оби. Вокруг валялось много отшлифованного водой и галькой плавника, сосновой коры, палок. Николай умело и быстро, как истый таежник, распалил большой трескучий костер.
Они сели под дым на перевернутую лодку, наполовину засосанную песком. Пламя стелилось по ветру. Огромная, косматая от волн Обь глухо шумела, дышала холодом. На далеком, другом берегу горел рыбачий костер. И Тане казалось, что там, у того костра, хорошо, весело и совсем нет комаров. А здесь было довольно угрюмо. Низко волоклись слегка подпаленные зарей тучи. Другой берег едва угадывался — так широка была Обь. Среди свинцовых волн в розовых бликах мелькал вертлявый остяцкий обласок. Кто в нем плывет? Куда?
Читать дальше
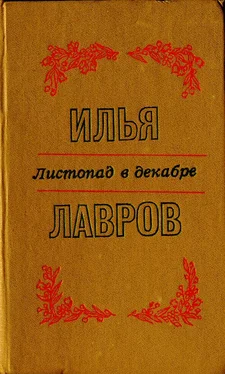
![Франц Холер - Президент и другие рассказы, миниатюры, стихотворения [Сборник]](/books/32748/franc-holer-prezident-i-drugie-rasskazy-miniatyury-thumb.webp)