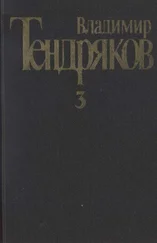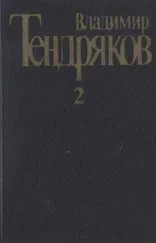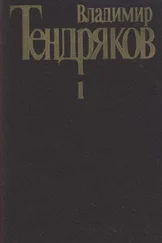Тут Федор бросился на дорогу, вжался лицом, грудью, животом в черствую, горячую, пропахшую полынью землю. Земля неуютная, земля не схожая с той, на какой вырос, земля родная, единственная надежда, спасай, земля!
И земля болезненно содрогнулась — раз, другой, забилась в судорогах. А над затылком раскалывалось небо. Достаточно! Хватит! Наверное, весь мир в обломках! Хватит же! Но сотрясается земля, утробно ухают взрывы, шипит напоенный осколками воздух — нет конца.
Не верил — его убить?.. Маленький, растерянный, забытый… Маленький? Нет, огромный. Не спрячешь неуклюжее тело в землю. Затерянный? Нет, видно его со всех сторон. Стать с божью коровку, с травяную тлю — спастись, жить!.. Его? Убить? Очень легко. Дотянуть до конца, дожить чудом, только бы дожить!..
Тишина обвалилась внезапно. Тишина более оглушающая, чем взрывы. Ей не верилось, Федор продолжал вжиматься в землю, в тот целый кусок земли, что чудом уцелел от разрухи. Но минута, другая — по-прежнему тихо. Тело мало-помалу приобрело нормальные размеры, не казалось уже распухше-громадным.
Он поднялся.
По выжженной степи прыгало подгоняемое ветром перекати-поле — клубок сухих колючек. Все цело, ни одной воронки вблизи. Бомбы, оказывается, падали в стороне.
Отфыркиваясь, как рассерженная кошка, упал перед Федором на дорогу заблудившийся в поднебесье осколок — корявый, зазубренный, покрытый окалиной. Такая штука может снести полчерепа. В другое время Федор непременно бы схватил его рукой, поднес к глазам, полюбовался.
Самолеты, сыто урча, уходили к себе. Зенитки продолжали пятнать небо. Уходили, не наказанные за бесчинство.
Федор поднял лопатку и принялся долбить захрясшую, звонкую дорогу.
Стук! Стук! — отлетают кусочки…
Жизнь — роса на траве под низким утренним солнцем, сизая, как грудь голубя. Жизнь — город, где водой поливают камень, а корни деревьев прячут за решетку. Жизнь — губы Нефертити… Он хочет жить! Хочет! А из далекой, известной ему только по картам и книжкам страны посланы машины, летающие, ползающие, бросающие снаряды, — много машин, армии людей, всё для того, чтобы отнять у него, Федора Матёрина, жизнь. Для чего это им? Что он сделал? Чем помешал?
Стук! Стук! — долбит лопата.
До сих пор мир был ясен, мир был доброжелателен, — казалось, шагни к нему, и он встретит широко раскрытыми объятиями — добро пожаловать, Федор Матёрин, не стесняйся, будь хозяином. А в мире есть темная сила, она готова совершить убийство, совершить и не заметить этого. Какое ей дело до маленького человека, одного из бесчисленных миллионов, какое ей дело до того, что он хочет жить, мечтает о новой Нефертити. Не укладывается в голове. Страшно! Хочется плакать…
Стук! Стук!
На дороге показались двое — низкорослый солдатик, суетливо пританцовывая чересчур большими сапогами, услужливо поддерживал раненого. Тот был по пояс голый, мускулистую грудь крест-накрест перехлестывали бинты — яркая, режущая белизна и рыжие пятна крови. Бинтами перехвачена и правая рука. Верх галифе черен от крови.
Раненый выступал бережно-спокойным шагом — голова вскинута, спина распрямлена. Казалось, он не особенно нуждался в услугах суетливого солдатика.
Они приближались, а Федор, затаив дыхание, страдая, глядел.
Раненый перехватил его взгляд, и лиловые губы растянулись в усмешку:
— Старайся, брат, старайся. Чего рот раскрыл?
Он прошел мимо все тем же бережным шагом, горделиво неся голову. Из-под бинтов с плеча тянулся по крепкой спине черный след запекшейся крови.
Федор не шевелился.
«Старайся, брат…» Он еще шутит. А губы темные, обметанные, идет, словно по стеклу. Солдат возле него выплясывает, по спине видно — чувствует свою вину за то, что жив, не тронут… Минуту назад Федор чуть не плакал — жить хочу, страшно… А его и не задело — целехонек. Стало стыдно.
«Старайся, брат. Чего рот раскрыл?»
Федор принялся торопливо долбить: стук, стук!..
8
Присыпал, притоптал, распрямился, огляделся…
Вдали тень легкого облака гладила степь. И видно было, что степь не такая уж плоская и гладкая, как казалось раньше, — шероховата, морщиниста. Тень от облака гнется, переползает через глубокие морщины. И вид у степи тусклый, пепельный, утомленный той древностью, теми столетиями, что пролетали над этой много пережившей землей.
И Федор неожиданно для себя ощутил, что эта степь перестала быть чужой и враждебной. Где-то в ее необъятности есть ничем не приметное место, такой же, как все кругом, прожженный насквозь солнцем, поросший рахитичной полынью клочок степи. Там окоп, в окопе ребята — дом.
Читать дальше