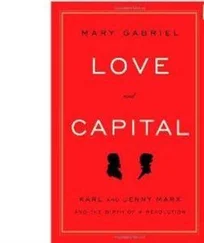«Вы брали на себя?» — спросил Емельян Парамонов.
Да, бывают минуты, когда никто не возьмёт на себя, кроме как ты. Однажды в санатории. Весьма закрытом и комфортабельном, куда попадают не те, кто стремился бы, если бы мог знать о таких чудесах под пальмами, но кого водворяют силой, с применением мер административного воздействия всевластные врачи. И познакомился там в бильярдной с одним товарищем, лобастым и короткошеим, угрюмоватым даже. К концу смены они вроде бы даже стали корешами, и товарищ рассказал забавную историю. Де-вышел в его конторе спор о характере поверхности, специально для которой надлежало изобрести и запустить машину. Твёрдая это поверхность или пылевидная. Техническая интеллигенция дискутировала, дело стояло. И тогда новый залёткинский знакомый взял чистый лист бумаги, написал одно лишь слово — «твёрдая», подписался и отдал разработчикам. Много позже Алексей Фёдорович узнал, что имелась в виду поверхность Луны, машина была луноходом, фамилия же на листке — Королёв.
Ночь шла над городом, варился в домнах металл, ночь направлялась с востока на запад вслед эшелонам с металлом, их настигало утро. Залёткин сидел, задумавшись, огромный, как стог, подперев шишкастую голову рукой.
Может быть, в этой задумчивой позе отольют его когда-нибудь из бронзы и поставят возле здания горисполкома напротив другого памятника — Василию Кормунину. Но скорее предстанет он в виде неправдоподобно плечистого бюста с чванно задранной головой на неохватной шее. Похожий на себя не более, чем Кормунин, который при жизни был хлипок и сутул.
Борис Степанович Песчаный идёт вечерним обходом по вверенным ему помещениям водноспортивного центра «Парус». Идёт заведующий учебно-спортивным отделом. Согласно должностной инструкции, первый заместитель директора, отбывшего сегодня в очередную командировку, он будет исполнять его обязанности.
Повстречав уборщицу, которая согласно должностной инструкции протирает перила лестницы, Борис Степанович говорит ей шутку. Незатейливую — для доходчивости.
— Как, — говорит он, округляя брови, — вы здесь? Разве вы не уволены?
Её портрет на Доске почёта, Борис Степанович беззлобно разыгрывает её, смеётся, а она — нет. Почему-то, когда Емельян Иванович, встретив эту же уборщицу, круто поинтересуется вдруг: «Дак тесто подошло ли?» — и вгонит в оторопь (какое, мол, тесто?), и деловито пояснит: «На пироги к тебе собираюсь, у меня запланировано», она хохочет-заливается и всем об этом рассказывает, восхищаясь: «Ну, Пугач! Налетит — не охнешь».
Не дождавшись желаемой реакции, Борис Степанович официально спрашивает, почему уборщица не в форменном костюме — голубом халате с белым воротником и эмблемой паруса на рукаве. Эту форму придумал и ввёл директор: она-де способствует чувству гордости за свой бассейн, за свою профессию. Борис Степанович сомневается, что уборщица — профессия, тем более какой можно гордиться. Но порядок есть порядок. Уборщица отвечает, что отдала халат в чистку. Персонал не надышится на эту форму, норовит нарядиться в неё, например, для посещения родственников и знакомых. Борис Степанович укоризненно говорит: «Ну-ну», — и следует дальше.
Он заходит в медицинский кабинет, и дежурная сестра докладывает, что за время дежурства происшествий не было. Это самая хорошенькая и кокетливая из сестёр. Люба-блонд, спелый персик, в отличие от Любы-чёрной, похожей на лимон, кожа пупырями. Но какой сейчас у Любы-блонд безжизненно барабанный голос, каким холодом веет от неё на Песчаного! Между тем Борис Степанович молод, тридцати лет, игра в водное поло придала фигуре великолепную пропорциональность, ясны большие голубые глаза, высок лоб, тонки и точны носогубные складки. Он тайный женолюб, он тотчас делается сух и скован с женщинами, которым — чувствует — нравится, и они тогда не скрывают снисходительного к нему презрения, что уязвляет. Нет, он не боится супруги, они с Ириной давно поостыли друг к другу, да и поначалу никакого пожара не было, так — умеренно континентальная любовь. Последний курс института, все вокруг обзавелись семьями, тебе говорят: «Старик, приглядись, классная же девка», а ей: «Старуха, стоящий мужик, не проморгай» Нет, он боялся не Ирину с её прозрачным быстроглазым личиком, с мерной, ритмичной заботой о доме, о сыновьях-погодках Илье и Никите, но разоблачения, бесконечного, выматывающего душу разговора на кухне, возможных слёз — словом, той развязки, которую, даже и лелея нечто в воображении, непременно себя представлял.
Читать дальше