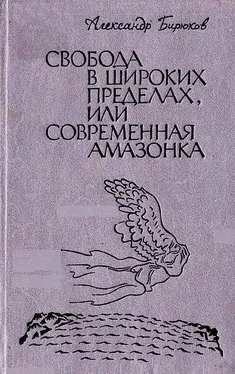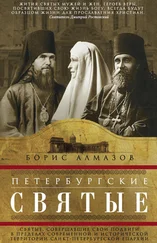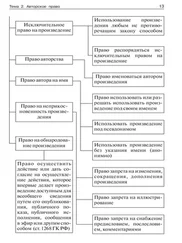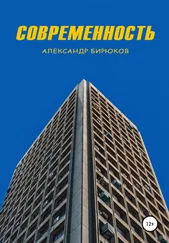Удар. Треск. Тарелки. Теперь солдат демобилизованный. Китель еще снять не успел, сапоги на штатские ботинки не сменил, а туда же. Видишь, Софьюшка, какое счастье?
Но и это еще не все. Новый удар (и откуда только у Гегина еще силы берутся?) — теперь какой-то дяденька степенного вида: не то университетский преподаватель, не то хозяйственник с интеллигентной рожей. Надо бы их всех запомнить, лучше даже записывать — вот они все, голубчики, стоят, ни один никуда не уходит, даже робкий Петя на сцене до сих пор мается. Но как записывать, если она все время но сцене носится между Гегиным и Софьюшкой и подносик все время в руках?
Трах-тара-рах! Архитектор С. Ну этот ладно, хватит ему на трапеции носиться, расшибется еще, пусть на сцене спокойно постоит.
Трах-тара-рах! Работяга, тоже в сапогах.
Трах-тара-рах! Ну а этот на иностранца похож, усики, волосы мелко-мелко вьются. Разберемся.
Трах!
Трах!
Трах!
Боже, сколько их! Уже целая толпа на сцене. Алла Константиновна и шустрый Лампион уже не подбегают к каждому с букетом — цветы, наверное, кончились; и сил больше нет, стоят по краям сцены, как часовые, — и только кланяются, когда новый претендент (хорошо, что хоть такое слово подвернулось) появляется. Хотя они-то здесь при чем? Но кланяются, как китайские болванчики.
И у Нины уже сил нет совсем. С каждым таким появлением она чувствует себя все хуже и хуже, она уже боится смотреть на свои руки и ноги — такими они стали старыми, дряблыми и противными, она толстеет и толстеет с каждым разом, расплывается прямо на глазах, и все тело уже в ужасных складках и обвислостях. И та жалкая, хотя и блестящая концертная одежонка, что была на ней в начале этого сумасшедшего вечера, износилась, болтается на ней лишь несколькими лоскутами, да и те обрываются один за другим и падают на пол, и вот уже на ней ничего нет, совсем ничего — старое, жалкое, дряблое тело выставлено на всеобщее обозрение, и даже живот не прикроешь, потому что в руках этот дурацкий подносик с очередной жесточкой.
«Но я же бегать буду каждый день, всю жизнь!» — хочет крикнуть Нина, но когда уж тут кричать, если только успевай поворачиваться, взбесившаяся Софьюшка все сует и сует ей новые жесточки и смотрит на нее с неизменным восхищением.
Но почему Инна Борисовна, властный директор этого учреждения — Дворца культуры профсоюзов, не выйдет на сцепу и не скажет во всю мощь своего хорошо поставленного голоса: «Немедленно прекратите это безобразие! Я завтра же утром доведу до сведения надлежащих лиц, что вы здесь себе позволяли. Юрочка, уберите свет со сцены!» Но не выходит почему-то, и невидимый Юрочка свет не гасит. И доколе, доколе это будет продолжаться? Ведь и зрители уже не визжат и не аплодируют…
А где, кстати, они? Словно очнувшись, Нина видит совершенно пустой зал с нелепо висящей над рядами трапецией. Вот и мамочка с Лампионом исчезли, словно их кто-то выключил. А вот и Гегина нет — тоже выключили. И Софьюшки наверняка нет, можно не оглядываться. Теперь уже ничего нет — ни сцены, ни кулис, ни этого Дворца, есть только какое-то пространство, какая-то поверхность, может — просто земля, на которой стоят десятка три-четыре очень разных мужчин и перед ними она — старая, безобразная женщина, на которую они смотрят, однако, без отвращения, но и без вожделений, конечно, — как на нечто очень привычное: ну есть ты и ладно, но не пора ли все это сворачивать, наконец?
Правильно, ребята, давно пора. Сейчас я буду просыпаться. А вам — общий привет. Но жить я буду, оказывается, долго.
Жалко только, что никто эту группу не сфотографировал и нельзя будет проверить, сбывается гегинское предсказание или нет. А всех вас, голубчики, разве запомнишь? Ну, привет, стало быть. Или до свидания?
И снова письмо от Софьюшки.
Ниночка, милая!
Ты, наверное, уже давно коришь меня за куриную бестолковость и старушечью суетливость, но я снова не могу сдержать себя и берусь за перо. Поздравь меня — все окончилось благополучно, нашелся этот оболтус. Собственно, не нашелся даже, а сам пришел, худой и злой, из мест, как говорится, не столь отдаленных. Неудобно это говорить, а писать тем более, но отбывал Витя пятнадцать суток — после той ночи, когда сжег свои картины: его тогда же, под утро или утром уже, после шести, замели (его словечко! чудесное, не правда ли?) на автовокзале — и где он только спиртное среди ночи доставал, удивительно.
Однако этим его неприятности не кончились. Казалось бы, забрали — и ладно, ходи мусор прибирай или чем там они еще занимаются, но ведь Виктор так не может, не может он на улице появиться в компании бичей, да еще под присмотром милиции, — забастовку объявил, не пойду и все. А там, оказывается, это не любят, посадили Витю, как при царизме, на хлеб и воду, и жаловаться некому, потому что порядок такой: кто не работает — тот не ест. А ему, оболтусу, только этого как будто и надо: то ли упрямство свое проявить, то ли в святых хоть неделю побыть. Ах, на хлеб и воду, спросил. Ну так воду давайте, а хлеба и не надо вовсе. Стал голодать. Милиция потом, наверное, и сама была не рада, что с таким типом связалась, хотели его домой отвезти, но он уперся: права не имеете, раз посадили — отсижу до конца. Так две недели и мучился. Ну где ты еще найдешь упрямца такого!
Читать дальше