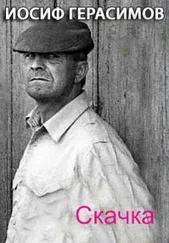— Только про нее, — ответил я.
— Ну, мальчики, это нечестно. Я ведь тоже хочу послушать.
— Свою пора заводить, — наставительно сказал Нестеров.
Мы огибали мыс Доброй Надежды. Шторм бушевал в этих краях; огромные антрацитные валы поднимались перед носом парохода, их поверхность рябило множеством мелких воли; вздымаясь вверх, они выбрасывали к низкому, словно покрытому гарью небу рваные струи воды, и те, набрав высоту, обессиленно падали на белые гребни, соединяясь с пеной; вдали грохотало, будто шторм огромной своей силой бился о грудь каменного мыса, — ведь недаром же звали его когда-то мысом Бурь, — и о его уступы разбивалось множество кораблей, идущих под разными флагами.
Ветер выл вокруг парохода, и в вое этом слышались разные голоса: и плач ребенка, и стоны раненых людей, и треск корабельной оснастки, и отдаленный гул канонады, будто все эти звуки хранились, собранные воедино где-то в убежище южноафриканских берегов, а сейчас доносились к нам на устрашение. Вот здесь, в этих водах, я и получил одну из самых печальных вестей, вообще когда-либо полученных мною в дальнем плавании…
Когда в конце дневной вахты на мостик поднялся первый помощник Виктор Степанович, я сразу насторожился. Наверное, он это заметил, тут же постарался сделать все, чтоб я успокоился: подошел к карте, посмотрел на нашу точку, покачал головой, на которой торчал его всегдашний хохолок.
— Ничего штормит, — сказал он. — Так, пожалуй, и к Кейптауну не подойдем… Как?
— Подойдем, — ответил я. — Мы да не подойдем, тогда кто же?
— Да, конечно, — сказал он и вышел на крыло мостика, взялся обеими руками за ограждение и так остановился, задумавшись, но я чувствовал — он все время наблюдает за мной. Я не выдержал и решил спросить его напрямую; вышел из рубки, стал с ним рядом, но так ревело вокруг, что мне пришлось к нему склониться и крикнуть в ухо:
— Что случилось?
Он вздрогнул, замотал головой, показывая, что ничего не слышит, тогда я указал ему на рубку, приглашая его туда, но в это время появился на мостике старпом — надо было идти сдавать вахту.
Я спросил у старпома:
— Вы не знаете, что случилось?
— Я спал, — сказал он. — А что?
Я кивнул в сторону Виктора Степановича. Старпом вгляделся в него пристально, как тот стоит, напряженно держась за ограждение, наклонив вперед голову и сжимая челюсти.
— Да, что-то есть, — согласился старпом и тут же забыл об этом, потому что стрелка часов двигалась и надо было делать свое штурманское дело.
И я на какое-то время забыл о первом помощнике, пока показывал записи в журнале и точки на карте, но, когда стал спускаться по трапу, Виктор Степанович догнал меня, дружески обнял за плечи и сказал:
— Зайдемте к вам в каюту… Небольшой разговор.
Мы прошли ко мне. Виктор Степанович сразу же сел, потом жалобно попросил:
— Нет ли у вас сигареты?
Я улыбнулся: он замучил всех своими просьбами. Бросил курить, у себя сигарет не держал, но стоило при нем кому-нибудь закурить, как он не мог удержаться: видимо, желание было сильнее его, и тогда он всех стал просить, чтобы ему даже по самой жалобной просьбе не давали и окурка.
— Не могу, Виктор Степанович, — сказал я. — Сами просили.
— Черт с ним, что просил! — внезапно вскипел он и уже резко приказал. — Дайте закурить!
Мне ничего не оставалось, как протянуть ему пачку с сигаретами. Он жадно схватил одну, нервно размял в пальцах и только после того, как сделал глубокую затяжку, взглянул на меня, глаза у него стали мутными и сердитыми.
— Плохие новости, — хрипло сказал он. — Я пришел вам сообщить… Так мы решили с капитаном… бы ведь его ближе всех знали…
— Кого?
— Луку Ивановича, — сказал он.
Я еще ничего не понимал, но мне стало страшно, я это хорошо запомнил, как нездоровый озноб прошел по моей коже, оставив игольчатые следы, и стянуло на затылке и лбу.
— Что с ним? — спросил я.
И тогда, морщась, словно дым сигареты мешал ему произнести слова, Виктор Степанович сказал:
— Умер.
Еще не осознав значимости услышанного, не поняв его истинного смысла, я лишь почувствовал — грянула бода, огромная, непоправимая.
— Как? — спросил я, опускаясь рядом с Виктором Степановичем на диван.
— У себя… на «Перове», — тихо сказал он. — Подробности не сообщили… только — на посту… на работе. Вот… — И он закашлялся, громко, надрывно, трясясь всем телом, и сразу же пот выступил на его лице.
И только тут дошло до меня — вот ведь что сделалось на этом свете: умер Лука Иванович, умер, как это было когда-то с моим отцом, умер где-то в море, и больше никогда его нигде не будет, и это прояснение случившегося было как удар, и, наверное, я сразу же потерял на какое-то время сознание, потому что почувствовал вкус теплой воды во рту и увидел перед собой руку Виктора Степановича, сжимавшую стакан; я резко отбросил от себя его руку и рванулся вперед, стукнувшись о стол коленом. Эта боль привела меня немного в себя, и я с трудом подавил желание бежать, я не знал, куда я должен поспеть, это был нервный порыв — сорваться с места и мчаться, словно можно было еще чем-то помочь ему. Но бежать было некуда, между мной и Лукой Ивановичем половина земного шара.
Читать дальше