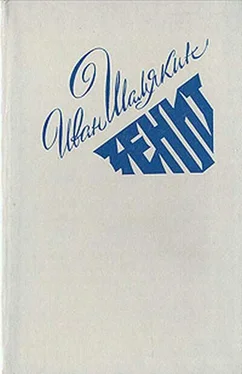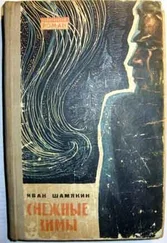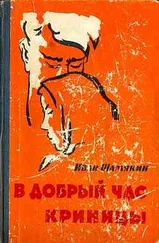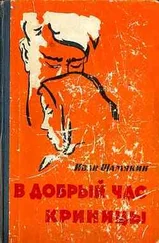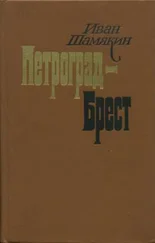Константин Афанасьевич с отцовской снисходительностью прощал нашему с ним непосредственному начальнику его невысокую культуру, себя он тоже не считал эрудитом. Но то, что Тужников часто выказывал скептицизм к знаниям кандидата технических наук и, более того, как бы подчеркивал свою «классовую неприязнь» к потомку княжеского рода, это парторга возмущало.
— Нет, правда — тысяча пятьсот? — серьезно заинтересовался Кузаев. — Интересно! И ты на всех был?
— Что вы! Для этого жизни мало.
А я не первый раз подумал: как ничтожны наши знания! Кто еще мог знать количество островов на озере? Всматриваюсь в лица. Масловский! На физиономии его написано. Шаховскому не завидую — ученый, капитан. Виктору завидую: окончили с ним один педтехникум. Завидую и чувствую себя немного виноватым перед ним. Почему перегнал его по званию. Почему не его, а меня назначили комсоргом? За какие достоинства? А он три года уже — командир прибора, старший сержант. Все же знают, какая у него голова. Хвалят. Кузаев, Шаховский, Данилов… А роста нет. Загадка. Пытался поговорить я на эту тему с замполитом.
«На передовой такие…»
«На передовой — свои законы. У нас — свои», — осек он меня, давая понять, что не моя забота — на то есть начальство.
Старший лейтенант Муравьев вопрос командира о нашем местонахождении воспринял как приказ. Над удивительной аккуратностью начальника штаба уважительно посмеиваемся. Тужников говорит о нем: «Еще один аристократ», но необидно для Ивана Ивановича, это всё камешки в Шаховского. Что касается Муравьева, Тужников хорошо знает: тот — крестьянский сын и психология у него крестьянская. Он и в дивизионе остался крестьянином и учителем. Да и в армии всего год, а до того где-то в глухой калужской деревне, где остались одни женщины, деды да дети, был директором школы и одновременно председателем колхоза и сельсовета.
Муравьев очутился рядом с рулевым баржи. В «рубке», от которой остался один раструщенный каркас — торчит над палубой, как скелет, свидетель пережитого судном, — седой человек, сутулый от годов и горя, с задубевшей, просоленной кожей на лице, наверное, не только от северных ветров, но и от жизни, слезами просоленной. Вечером, когда рулевой появился на барже, мы, офицеры, умолкли, потрясенные. До чего довела людей война! Колбенко признался, что ему даже стало неловко перед этим человеком. Мы — хорошо одетые, сытые. Пусть не так уж вдоволь… летом сорок третьего половина дивизиона болела куриной слепотой. И все же ни дня не голодали. Мы знали, как живет народ… от жителей Кандалакши, от новобранцев — вологодских и коми девчат, от того же Муравьева. Но девчата появились обмундированные, молодые, да уже и немного покормленные. А этот старик (да уж такой ли старый?!) — как воплощение мук народных. Особенно поразила его одежда: на ватнике нет живого места, торчат клочья сопревшей ваты, его и латать невозможно. Кузаев сразу приказал начальнику обозно-вещевого обеспечения:
«Дашь ему новый ватник».
«Запаковано же, товарищ майор».
«Распакуешь, жмот».
А потом мы видели, как рулевой ужинал. Ел перловую кашу с необычайной бережностью, как удивительный деликатес, неспешно. Именно неспешность говорит о том, что человек много голодал и знает цену каждой крупинке; хватает жадно, поспешно тот, кто долго не голодал, а просто проголодался, перед тем как дорваться до харча.
Рулевой отчетливо, коротко и — неожиданно для нас — командирским голосом крикнул:
— На буксире! Где идем?
Оттуда ответили сразу. Но рупор там так неестественно хрипел, что делал человеческий голос подобным вытью ветра в трубе. Никто ничего не понял. Засмеялись. Но в смехе была горечь: с какой техникой плывем! Однако рулевой наш через свой рупор четко, только тише, как бы опасаясь, что подслушает близкий враг, сообщил:
— Вышли в Большое Онего. Справа — Климанский.
— Немного прошли, — заключил Шаховский и всмотрелся на запад, словно увидел в посветлевшей дали что-то необычное. — Там — Кижи. — И с тревогой: — Неужели они сожгли Кижи?
— А что такое Кижи? — снова не постеснялся спросить Кузаев.
Лицо Зуброва приняло вид удивленный, а не скептический, не насмешливый, видимо, о Кижах он и сам не знал. Я о Кижах читал еще до войны — какая-то церковь. Но к церквям тогда мы, молодые, проявляли так мало интереса, что в памяти не осталось, почему вдруг церковь стала предметом внимания серьезного журнала.
— Кижи — остров. На нем — уникальный, неповторимый памятник русского зодчества… — объяснял Шаховский, — Преображенская церковь…
Читать дальше