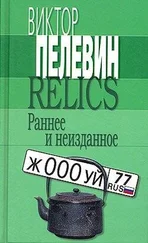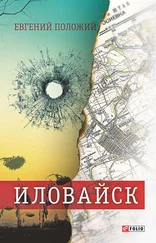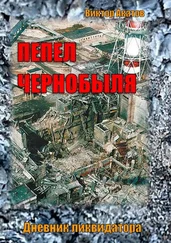— Мне показалось, суть их вы как раз и поняли. Когда каждый для окончания войны сделает все от него зависимое, тогда вопрос о войне отпадает сам собой.
— И какой путь вам видится?
— Уничтожать вас.
— Да. Есть и об этом. «Враг, пришедший к нам, заслуживает смерти, и каждый имеет моральное право его убить. Враг знал, куда шел, он сам себе выбрал смерть. И это оправдывает каждого, кто уничтожает фашистов». Записано верно?
— Содержание схвачено.
— Однако скажите, нашлись люди, полностью уяснившие то, что вы им глаголили, способные подняться на вершину своего «я», открыть себя?
— Важно зерно посеять, а всходы взойдут.
— Это коммунистическая пропаганда, она вам не к лицу. Отвечу вместо вас — не нашлись, и искать бесполезно: кто должен был стать самим собой, тот стал, а ком не дано — знать, не дано. Если бы вы для порядка занимались полезным делом, скажем лечением коров, или делали вид, что, заговаривая, изгоняете хворь, — тогда другое дело. А так — кому вы решились вдалбливать в голову постулаты вашей философии? Темному мужику? У него жена, дети, хозяйство, в лучшем случае он вас примет за юродивого, пусть у него в душе что-то посветлеет, но жить-то он будет по-прежнему, возиться возле скотины и мастерить детей. Все!
Зельбсманн налил в стакан воды, глотнул пилюлю и запил. Плеснул и во второй стакан.
— Вот, прошу. Остыньте.
— Но вы ведь не спросили меня о главном: почему я пошел по селам?
— Действительно, почему? Спасибо, что напомнили.
— Видите ли, вам этого не понять, я, честно говоря, и сам пришел к такому решению в большей степени интуитивно. Да, я, в самом деле, признаю только мир, вместившийся во мне, но ведь его объем не обязательно должен ограничиваться моей физической оболочкой, телом. Я включаю в свой мир все, что в состоянии объяснить ум: космос, землю, ее людей. Это — мое «я». В какой-то миг понял, что себя, Иосифа Христюка, я изучил достаточно полно, но еще не осознал своего настоящего «я», то есть и тех, других, входящих в мой мир. Я пошел узнавать…
— Ну-ну!..
— …узнавать и в меру своих сил делать так, чтобы мир в полном объеме моего «я» соответствовал своему назначению.
— Картина проясняется. Стало быть, в вашем мире для нас места не нашлось, поэтому вы и…
— Да.
— Гм. Послушайте! Ведь я тоже существую. В том мире, который вы охватываете собой. Значит, рассуждая логически, я объективно вписываюсь в ваш мир, в ваше «я», подтверждением чего и является эта наша беседа.
— Все логично и закономерно. Вы существуете реально, но лишь как антипод, как субстанция, которую необходимо преодолеть на пути к самоопределению.
— Будем считать, — предложил Зельбсманн, — все точки над «и» мы расставили. Осталось прояснить некоторые детали. Следствие, обвинение, приговор вас не интересуют…
— Я человек свободный и, если потребуется, сам найду способ распорядиться своей жизнью.
— Несомненно. Позволю себе последний вопрос: с какой целью вы назвались Михайличем? Неужели до такой степени разуверились в собственных идеях, что, отчаявшись, бросились очертя голову, рассчитывая таким образом сохранить за собой последний шанс на проявление своего «я»? Настоящий Михайлич сидит у нас. И ваш поступок еще больше усугубил его положение.
— У Михайлича хватит сил выстоять и без моей помощи. Для меня же главное — выкатить камень на гору. А там…
— Камень слепой, дороги не выбирает.
— Но зрячие его видят.
— А слепые? Допустим, лучшей участи мы не заслужили, мы намеренно останемся слепыми, а как быть тем, кого вам не удалось просветить? Сколько тысяч заложников? Им-то ваши рассуждения и прекрасные метафоры, уверен, были и останутся безразличны. А вам лично? Особенно, когда вырвем кусок из вашего мира: крестьяне, их жены и дети, которых мы вскоре расстреляем… Вы ведь тоже приложили руку к их гибели, руководствуясь самыми благими намерениями. Не самоубийство ли это для вас: своими руками разрушать мир? Вот над этим, уважаемый, и подумайте. А заодно и о том, действительно ли переход к смерти является последней вершиной…
Вступление армии в город означает свершившийся факт, закономерность, естественность, которую такой и воспринимаешь, поэтому, когда красные с песнями, усыпанные цветами, не маршировали, а словно плыли по старой брусчатке Львова, в бытии Иосифа Христюка, собственно, ничего и не изменилось. И чуть раньше, когда профессор Хайдукевич накануне вступления красных собрал своих самых способных, подававших наибольшие надежды учеников и сказал, что отныне студентам будут вбивать в головы марксизм и для них начнется не постижение смысла и истины, а учеба… Даже тогда Иосиф Христюк не пытался представить, как отныне сложится его судьба — судьба его, он убедил себя, всегда была с ним, она была вечной. Иосиф ушел из университета, никого не поставив в известность, без заявлений и демонстраций, просто ушел — и не из нежелания изучать марксизм: их классиков, поскольку запрещали, он начитался достаточно, — уйдя, сам удивился, почему не сделал этого раньше. В душе он испытывал скуку, но чтобы покончить с ней, не хватало какого-то толчка, без сожаления расстался даже с профессором Хайдукевичем.
Читать дальше