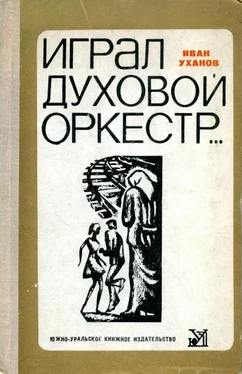— Уж такое спасибо… Где бы ту бригаду искать?
— Найдем… Рановато мы ей расчет выдали. — Трофимыч виновато покачал головой.
Разговаривая, они потихоньку вышли на улицу. Ушаков и зятек незаметно отстали.
— Это хорошо, хорошо, — шагая плечо о плечо с Фроловым, будто для себя повторял Трофимыч. В его взгляде и голосе было что-то новое для Фролова — уважительное, поощряющее. — Новый дом Ушаковых сто девяносто третий по счету, а всего в деревне двести дворов…
Однако в глазах Трофимыча мелькал какой-то далекий от этого разговора вопрос. Особенно это было заметно в паузе, когда бухгалтер и председатель, переглядываясь, напряженно и выжидательно замолкали, словно готовясь следующую фразу начать именно этим вопросом.
Около клуба, когда Фролову надо было свернуть к дому Архиповны, Егор Кузьмич, больше молчавший в разговоре, сказал:
— Тут слух прошел, Федор Васильевич, что вы сына Архиповны, Ивана Березова, знали, на фронте встречались… Что, правда?
— Да, — кивнул Фролов и смолк, не зная, что рассказать о Березове, чего ждут от него председатель и бухгалтер. — При мне погиб Иван. Под Берлином это было. Есть там сосновый бор Штерн…
— Это, кажется, южнее Берлина. Да?.. Вот, вот, — припоминал Трофимыч. — Наша седьмая танковая бригада как раз утюжила те курортные места.
— Ого, да вы никак оба в Берлине побывали, — ревниво заметил Егор Кузьмич.
— Нет, Берлин я видел только издали. Меня тяжело ранило в том бою, когда погиб Березов.
— И мне малость не повезло, — соучастливо подхватил Трофимыч. — Наш танк подорвали в полуверсте от рейхстага. Конца войны я тоже не видел. Так шлепнуло, что три месяца в госпитале в себя приходил, да и поныне еще не совсем очухался.
— Это и видно. Не мужик ты, Трофимыч, — кипяток, — улыбнулся председатель, на его шее, вытянувшейся из воротника рубашки, закраснел рубец старого ожога. Фролову сейчас же вспомнились слова Архиповны: «На Егоре Кузьмиче и живого места нету… А спина-то ровно старый зипун в заплатах… из чужой, слышь, кожи».
— Вот оно, значит, как, — в раздумье раза два произнес Трофимыч.
Потом разговор как-то оборвался. Шли и молчали: фронтовики не любят рассказывать о войне друг другу. Фролов шагал устало, лица Егора Кузьмича и Трофимыча были тоже утомленными — с зари до зари на ногах. Фролову подумалось, что вот идут они с работы как с поля боя, оставив позади многотрудный день, и эта усталость роднит, объединяет их.
Навстречу вышел Антон Шукшанов.
— Тебя только за смертью посылать, — наперво ругнул он Сережу, потом повернулся к Фролову:
— Вы чего ж… Велели приходить, а сами ушли. А завтра как?
— Завтра… — Фролов замялся. — Завтра мне бы в город…
— Уезжаете?! — воскликнул Сережа и уцепился за руку Фролова. — А говорили, баян послушаете.
— Послушаю, Сережа. У нас еще будет время. — Фролов легонько потрепал темный вихорок мальчика.
— Вот шпингалет, истинно репей. Уж и тут пристрял. — Шукшанов мирно буркнул на Сережу и шагнул к председателю: — Тогда я завтра, Егор Кузьмич, на ферму, стеклить.
Он повернулся и хотел было идти, но остановился, глянул на Фролова:
— А обелиск как же теперь… отставить?
— Нет, Антон Иванович, но… — Ответить на этот вопрос Фролов не был готов даже себе. — Понимаете, вместо обелиска, возможно, будет что-то другое… А что именно — не скажу, сам не знаю пока.
Шукшанов помолчал и пошел к дому. На его лице Фролов успел прочесть недоумение: «Как это? Нанялся строить, а сам не знает чего. А кто ж тогда знает?..»
— Мне бы машину на завтра. Из города кое-что привезти, — Фролов обратился к председателю.
— Можно, — кивнул Егор Кузьмич.
Молча стояли затем посреди улицы, желая сказать друг другу что-то важное, в тон мыслям и настроению.
— А что, друзья однополчане, давай ко мне на пироги с калиной, — неловко предложил Трофимыч.
Приглашение осталось без ответа.
— Вы Архиповне не особо… о сыне-то. Не бередите, — пожимая руку Фролова, сказал Егор Кузьмич. — Пободрее слова подыскивайте… Каково ей сейчас? Соль на старую рану…
«Как я устал сегодня, как хорошо я устал!» — шептал Фролов, засыпая на ходу. И все, что было дальше в этот вечер, ощущалось им смутно, сквозь эту добрую усталость. Когда он лег спать, впечатления дня и вечера вернулись к нему голосами, лицами людей, картинами памяти…
Некоторое время он лежал, уставившись взглядом в темный потолок. Но стоило ему закрыть глаза, задремать, как сразу же он начинал что-то делать. Дела эти были неуловимыми, бесплотными, как движения ветра, как дым. Он спал и чувствовал свой сон, слышал свое дыхание, голос дождя за окном, избяную тишину, глухое бормотанье радиоприемника и, чтобы не обманывать себя, открывал глаза, находил в густом сумраке потолок, стены, вещи, как бы удостоверяясь, что действительно вокруг ночь и надо спать, он снова закрывал глаза, помогая дреме одолеть себя. Но это старание вскоре же превращалось опять в какие-то дела, которые, однако, все более прояснялись, обретали смысл. Руки его делали что-то вещественно осязаемое, язык говорил вполне понятные слова…
Читать дальше