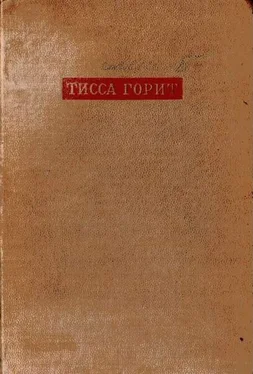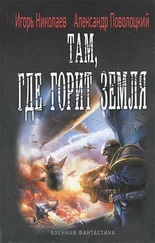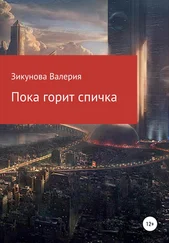Анталфи умолк и богатырски зевнул.
— Ты, стало быть, был поваром? — спросил Готтесман.
— Я был всем, чем только можно быть: сапожником, портным, поваром, учителем, врачом, подпольщиком, солдатом, короче — большевиком.
— А что ты делал в мирное время?
— Сколько раз будешь ты меня об этом спрашивать? Актером — вот кем я был.
— Комедии, значит, разыгрывал?
— Да-а-а… Такую же ослиную голову, как у тебя, на себя напяливал… такую же ерунду нес, как ты несешь, — а публика над этим потешалась и платила мне так, как только мечтать можно.
— Ну, пора спать. Завтра ведь тоже день…
Красная армия переправилась через Тиссу. Румыны недешево отдали свои позиции, но вели себя героями, лишь пока красные не ступили на их берег. Тогда они пустились наутек.
Два дня и две ночи все шло, как по маслу. На третий день мы обнаружили, что у нас в тылу румыны. Нас ее разбили, и все же приходилось отступать. А это было гораздо труднее, чем итти вперед: пушки румын обстреливали дорогу, а французы сыпали бомбы с самолетов.
— Эти бомбы предназначались русским большевикам, теперь, когда мы во всю задвигались, они достались нам… Но, ребята, носов не вешать! — утешал Анталфи свою поредевшую роту. — Не всегда так будет, мы еще двинем на румын, чорт подери…
Румынские орудия ни на минуту не умолкали, но наши не могли уже отвечать на их хриплый лай. Пушки у нас еще были, но красные артиллеристы бежали.
У Готтесмана пулемет валится с плеч, и он, споткнувшись, с трудом удерживается на ногах: — Подстрелили, подлецы!
Петр подхватывает его подмышки, меж тем как Анталфи бросается к пулемету.
— Сюда, ребята, сюда! Не достанется пулемет румынам!
Он кричит, зовет, но никто его не слушает. Румыны палят во всю. «Спасайся, ребята, спасайся!» У всех одна лишь мысль — бежать без оглядки.
Пулемет остается лежать в пыли, вокруг валяется множество винтовок. Сейчас винтовка — одна лишь помеха. Бежать без нее легче.
— Черти! Это что ж — социализм?..
— Убью, как бешеную собаку, того подлеца, кто завел нас сюда, в эту гнусную бойню!..
— Из Будапешта легко приказы рассылать…
Слева надвигается румынская конница. Никто не помышляет о сопротивлении. Все, кто могут, бегут, побросав винтовки. В небе парит французский аэроплан.
Тра-та-та-та-та-та-та.
Летчик из пулемета бьет по бегущим.
В Солноке у въезда на деревянный мост толпятся беглецы.
Лошадь в испуге вздымается на дыбы и разбивает часть перил. Вместе с одноколкой валится она в Тиссу, увлекая за собой несколько человек.
— Спасите! Спасите!
На противоположном берегу автомобиль пытается проложить себе дорогу к мосту, но застревает в людском потоке. Из автомобиля выскакивает человек и протискивается на мост. Другой, в черной кожаной куртке, остается в машине. Размахивая ручной гранатой, он кричит что-то в самое ухо шоферу, но из-за шума, грохота и трескотни, криков и стонов — слов его не слышно.
Тот, что соскочил с машины, пробрался уже почти к самому румынскому берегу. Он стоит там, где только что лошадь свалилась в воду, — запыленный, грязный, небритый красноармеец. Молча наблюдает он это паническое бегство.
Петр глядит на него… «Быть не может, — проносится, у него в мозгу, — или и впрямь он?..»
Все больше красноармейцев толпится вокруг неподвижно стоящего человека, еще немного — и его сметут в Тиссу…
— Ну, герои…
— Товарищ Кун!.. Бела Кун!..
— Ну; герои, куда вы девали свои винтовки? — спрашивает Кун усталым хриплым голосом.
Тра-та-та-та-та-та.
Румынский снаряд попадает в автомобиль. На месте человека в кожаной куртке — окровавленная груда.
Тра-та-та-та-та-та.
В Солноке, на высоком берегу, пылал дом с тесовой крышей.
Мне было тринадцать лет, когда жандармы забрали моего отца. Дело было так: когда управляющий ударил отца кулаком по лицу, тот бросился на него с вилами. Сбежался народ, но отец, размахивая окровавленными вилами, никого к себе не подпускал. Мы — моя мать и я — стояли поодаль, у дверей нашего домика. Пришли жандармы, надели на отца наручники и увели. Мать после этого долго пролежала в постели — так она была подавлена и измучена.
Суд приговорил отца к десяти годам тюрьмы. Соседи утешали мать, что отец выйдет из тюрьмы еще крепким человеком, ему тогда будет всего сорок три года, но увидеть отца мне так и не довелось — он умер в тюрьме. Мы же переселились в город, к родному брату моей матери. У дяди Ивана не было ни жены, ни детей. Когда мы к нему переехали, он рассчитал свою старую стряпуху, и с тех пор моя мать стала стряпать истирать на всех.
Читать дальше