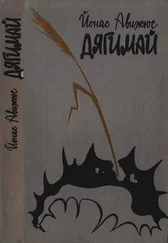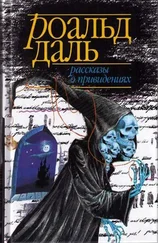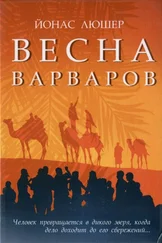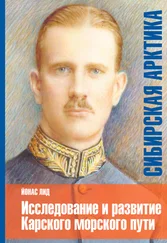— Я же тебя любил, и как любил! Думаешь, не было девок, и не таких голодранок, как ты, мог любую выбрать, а ведь я здесь… Любящая женщина терпеливо ждала бы… Год, пять, десять, всю жизнь, если надо. Ждала бы, ждала, ждала… Настоящая любовь, разумеется, если это настоящая любовь…
— Не лицемерь, Адомас. Настоящая любовь не побоялась бы лишиться отцовского наследства.
Адомас язвительно рассмеялся.
— А тебе оно было ни к чему, наследство-то? Нет, ты не из таких, отнюдь не из таких, лапочка. Любовь для тебя — пирожное к кофе. Конечно, когда брюхо набито.
Милда вскочила с дивана, бросилась к столику с приемником, повернула регулятор. Оглушительная музыка забила последние слова Адомаса.
— Заткни эту адскую машину, черт побери! — в бешенстве крикнул он.
Она стояла спиной к нему. Одна рука на столике, другая прижата к груди. Изящная, миниатюрная, великолепно сложена: большая белая кукла со склоненной на плечо головкой, в которой больше ума, чем полагается красивой женщине, но не столько, чтобы в критическую минуту суметь побороть свое сердце. Адомас в отчаянии смотрел на нее (ах, какая знакомая поза!) и со страхом понимал, что все, столько времени державшее их вместе, не просто игра — он по-настоящему любит Милду; пожалуй, не так наивно, бурно, как в те времена, когда она носила плиссированное гимназическое платье и заплетала свои белокурые волосы в две толстые косы, но любит, ей-богу, любит. Он подошел и выключил радио.
— Милда, — тихонько позвал он, — не надо ссориться, особенно сейчас не стоит ссориться, лапочка. Ты сама не понимаешь, как ты мне нужна.
Она молчала.
Тогда он ласково обнял ее за плечи и повернул лицом к себе. Ее щеки запали, рот мучительно кривился: она не умела плакать со слезами.
— Твой Адомас сволочь, дурак, последняя тварь. Отхлещи его по щекам! Дай ему в морду, Милдяле! — Он взял ее руку, бесчувственную, как неживую, и несколько раз ударил себя по лицу. — Вот так, так и надо этой скотине, этой свинье, этому выродку!
— Не дури! — Милда сердито вырвала руку.
— Я не дурю — я тебя люблю!
— И что же?
— Мы можем быть счастливы, Милдяле. Не надо думать о прошлом. Тогда я был сопляком, дурачком. Ты же знаешь, какая у меня мать… А теперь я свободный человек. Хочешь — хоть сегодня сыграем свадьбу.
— И что же? — равнодушно повторила она, но глаза ее ожили.
— Замолчи, малышка, хватит, лапочка. — Он обнял ее и поцелуем закрыл рот.
— Ах, пусти… отстань… не хочу… — отнекивалась Милда, неуверенно вырываясь из его объятий.
— Нет, нет! Никуда не пущу, никуда ты не пойдешь… Ты же моя, малышка, моя… — Словно ошалелый, он бросился перед ней на колени и стал целовать ноги, живот, грудь. Потом подхватил на руки, обмякшую, побежденную его страстью, и, бессвязно лепеча что-то, понес в спальню.
II
— Вчера какая-то Пуплесите приходила, — вспомнила Милда. — Из твоего Лауксодиса. Просила заступиться, чтоб ты выпустил ее отца.
Адомас накрылся с головой. Мягкая постель и жаркое тело рядом пьянили, как комната, сплошь заставленная цветами.
— Ты слышал, что я сказала? — Она откинула одеяло, обнажив его до пояса.
— Дура девка, — зевнул Адомас.
— Не такая уж она дура. Я спросила, почему она обращается ко мне, ведь я не комендант и не начальник полиции. Госпожа Берженене, говорит она, очень любезная барыня и красивая. А красивые женщины могут больше самых сильных мужчин.
— Хитрости у нее всегда хватало, — лениво ответил Адомас.
— Что грозит старику?
— Суд покажет. В других местах таких пташек кидали в яму без долгих разговоров, а мы суды разводим.
— Тебе ничего не стоит его выпустить. — Милда погладила Адомаса по щеке. — Сделал бы хоть одно доброе дело. У Пуплесиса много детей.
— А ты в курсе дела…
— …Совсем крошки. Ни эта девица, — не помню имени, странное какое-то, международное, — ни сама Пуплесене не любят своего старика. Он им нужен как рабочая скотина. Караете одного, а страдает вся семья.
— Я все это уже слышал, «госпожа Берженене очень любезная барыня». Неделю-другую назад они с мамашей приходили, наслушался.
Он умолчал, что два дня спустя Миграта снова побывала у него, на сей раз без матери; эта встреча оставила такой неприятный осадок, что не хотелось ни самому вспоминать, ни Милде рассказывать.
«Два года у ваших родителей батрачила, из одной деревни мы… Помоги, господин Адомас».
Она каким-то образом обманула хозяйку и проникла в комнату, хотя он и велел в свое отсутствие никого не пускать. Адомас сердито смотрел на ее рослую, пышную фигуру, туго обтянутую платьем из пестрого дешевого ситца в красный цветочек. Голые икры опалены солнцем, лицо румяное, обветренное, прямой, крупноватый нос облупился, под низким лбом кроткие, овечьи глаза.
Читать дальше