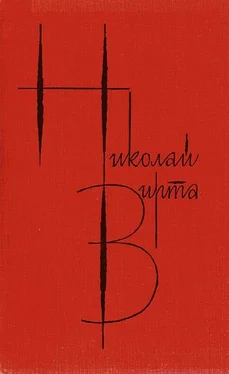Все эти хлопоты и заботы не мешали Сторожеву думать о своих делах. Год выдался удачный. Ржи и овсы уродились такие, что амбары трещали от обилия зерна. Коровы отелились, растут телушки, кобылы покрыты породистыми жеребцами, свиньи наливаются жиром.
Петра Ивановича выбрали в Учредительное собрание, но большевики учредилку разогнали и крепко взяли в свои руки власть в Питере и в Москве. Еще сидели в Тамбове свои, но дальновидный Петр Иванович знал: недолго они удержатся против большевистской лавины. И власть комиссара волости пока еще оставалась за ним.
2
Комиссарский мандат Сторожев ценил очень, жил он за этой бумагой, как за каменной стеной, и, прикрываясь ею, вершил свои дела бесстрашно. Да и кого ему было бояться? Коммунары — на фронте, в Совете — свои, а в ячейке — два-три человека, трепетавшие перед комиссаром.
Весной восемнадцатого года поехал Сторожев к Улусову, устрашил его призраком грядущих перемен и почти за бесценок купил сто заветных десятин у Лебяжьего озера. И тут же отправился в Тамбов оформлять купчую. В Дворики он вернулся помолодевшим: сбылась мечта! — бумаги на землю в кармане, адвокат Федоров обделал дельце тонко, не подкопаешься. Обрадовала его встреча с Булатовым, Антоновым и Плужниковым. Расстались они друзьями.
Сторожев гоголем похаживал по селу, важно улыбался, жал мужикам руки, а разговоры начинал торжественной фразой, вроде: «Мы постоим за мужика российского…», приказывал не безобразничать в имениях помещиков, спас Улусова от многих неприятностей, выручил из беды старого своего друга лесника Филиппа; мужики хотели подпустить ему красного петуха, прижимал их Филипп, чересчур был жаден и жесток.
А в апреле началось!
Приехал в село братец Сергей Иванович, потребовал свою половину избы с крыльцом, потребовал овец, телку… Да что овцы; пропади они пропадом! Власть свою поставил Матрос — так на селе звали Сергея Ивановича, — разную нищую бражку да солдатчину понасажал в Совет и комитет бедноты, а мандат комиссара у родного брата отобрал, не дав ему пикнуть.
К избе Петр Иванович привык и почитал всю ее своей, овец забыл пометить — как их делить? И власть не захотел Сторожев отдавать Матросу и его подручным.
Когда же заговорил Сергей Иванович о земле около Лебяжьего, совсем рассвирепел Петр Иванович.
— Отдать? Кому? Пóшто? Да разве она мной не куплена? А вот бумаги господином адвокатом писаны, властями утверждены.
Однако бумаги не помогли. Взялись за Петра Ивановича крепенько: землю отняли, половину овец, коров и трех лошадей свели со двора, выгребли зерно из закромов, отняли оружие. И васянинские ребята, наслушавшись Матроса, отказались работать на зятя. Только батрак Лешка Бетин не ушел от Сторожева: как служил, так и остался служить. Мальчишкой привела его к Петру Ивановичу мать Аксинья Хрипучка, кланялась в ноги, просила пожалеть ее горемычное сиротство: Листрат-то, мол, в Царицын подался. «Куды ж мне, бедной, деваться с малолетним Лешкой? Возьми уж, сделай божецкую милость».
Не любил Петр Иванович рвани с Дурачьего конца — с улицы, где голь нужду мыкала, но мальчонка ему понравился: смышленый, бойкий, в теле, жрет, поди, немного. Покобенился, поломался для виду, но взял парня. Лешкина мать в церкви за Петра Ивановича три свечки поставила.
Нещадно драл Лешку Сторожев за всякую провинность, да и без провинности попадало, ежели в сердитую минуту подвернется под руку. Лешку мальчишки дразнили Сеченым до тех пор, пока он огромному, старше его лет на пять, Сашке Чикину не разворотил в драке скулу.
Рос Лешка в семье как шестой сын.
Никого из сыновей своих не любил Сторожев так, как младшего Митьку. Старшие все нашли место в хозяйстве, каждый отрабатывал отцовский хлеб. Росли в отца, хозяйственные, большие парни, крепкие работники. Глаза у всех быстрые, руки проворные, жадные.
— Роди, роди, мать, больше, — говорил Петр Иванович жене. — Эк ты у меня какая гладкая!.. Роди сынов — работников. С голоду в старости не помрем. У кого-нибудь угол сыщем.
Рожала Прасковья быстро, с какой-то грозной поспешностью.
— Точно пули вылетают, — смеялся Петр Иванович. — Ну и силища у тебя, мать, в нутре.
А вот Митька трудно рожался. Прасковья лежала посиневшая, широко раскрыв глаза, страдальчески вздрагивали губы, и тело извивалось в страшных муках.
Оттого ли, что пал духом Петр Иванович, оттого ли, что дрожало что-то внутри за жену, только когда Митька с пронзительным криком, ослепленный холодным, блистающим декабрьским днем, вышел из материнского чрева, Сторожев забыл сказать обычные слова о новом работнике, и впервые настоящей отцовской радостью наполнилось его сердце.
Читать дальше