Как всякая мать, Анна примеряла дочь к ее одногодкам и каждый раз испытывала беспокойное чувство растерянности. Надюшкины сверстницы росли розовощекими, крепкими, ладно сбитыми девчонками. А Надюшка порела как-то не так: нескладная, угловатая, с мальчишескими ногами; платье на нее скроить — наказанье. Да и лицом не похвастаться: не круглое, а даже не поймешь какое, глаза большущие, в длинных ресницах, нос хоть и аккуратен, а надо бы поменьше, губы тонкие — еще бы ничего, да рот великоватый, а уши так и вовсе парнячьи. Только волосом и удалась — это, пожалуй, в отца…
«Хоть бы выневестилась ладом!..» — молилась про себя, а сама все чаще думала: не оттого ли дочь растет небаской, что родилась в позднем замужестве (говорили старухи, что бывает такое).
Что касается Ивана Артемьевича, о своей семье он попросту не очень задумывался. Прижимистости жены не брал в толк, а когда она проступала заметно, умел так удивиться этому, что Анна сама могла вывернуть все чулки. И тогда она становилась в его глазах обыкновенной расчетливой, даже бережливой женщиной.
А дочь стала отрадой. Да и мерял он ее не по материной мерке. Поначалу Иван даже стыдился про себя, что не испытывает к ней того, что называют нежностью. Он спрашивал себя, что же это такое — отцовское чувство, — и приходил в недоумение, не находя ответа. Нет, он понимал, что стал отцом, что надо растить нового человека не только по-другому, чем рос сам, но и с другой прицелкой в жизни с самого начала и отвечать за все это. Как это делать, он бы объяснить не смог. Но видел, что дочь любопытная, во всякую дырку лезет, про все, что непонятно, спрашивает — это хорошо. А когда прожила десять лет и уже приговаривала «когда я была маленькой», обозначились в ней и первая серьезность, и человечья доброта: любому несмышленышу, если надо, выговор даст или сопли утрет, отцовскими конфетами в получку всех подружек одарит, собак и кошек любит, а весной хромого галчонка выходила.
Хорошая дочь. Чего еще надо?
Нельзя сказать, что Иван Артемьевич гордился собой и семьей. Просто он был спокоен и за себя, и за свою семью. И жизнь казалась ему хорошей и правильной.
Костя Захаркин вернулся из Грязнушки в срок. Иван Артемьевич за это время успел переговорить с кем надо, и дело было за документами.
Костя встретил его не только без обычной сдержанности, но шумно и радостно:
— Все изладил, как велели! Они тама спохватились: айда, говорят, в колхоз, пиши заявление — без всякого Якова возьмем. А я им говорю: че я, дурнее мерина, что ли? Они давай уговаривать: жилье найдем, а потом женим. А я им: давай заместо невесты справку!..
— Заглохни маленько, — попросил Иван Артемьевич, уже понявший, что Костя вернулся с удачей. И, заметив к удивлению, что он при старых своих штанах облачен в почти новый, но немного великоватый ему пиджак и вполне приличные сапоги, между прочим поинтересовался: — Разбогател ты, вижу, за три дня, прибарахлился. Прямо франт!..
Костя пыхнул на мгновение румянцем, сбился со своих новостей, но сразу справился и радостно объяснил:
— Так это все на мне невзначай оказалось… Приезжаю, значит, в Грязнушку. Где, думаю, ночевать? Насмелился к соседям попроситься: всю жизнь рядом жили, шибко никогда не ругались, переночевать пустят. Захожу, а у них посередь избы стол большущий стоит, и человек двадцать народу за ним. Еда всякая, конечно, бутылки стоят, мужики почти все уже худоязыкие, особенно старые. Тетка Настасья ко мне со слезами: «Ой, Кистинтин, и ты здеся оказался! Айда-ко, миленький, за стол, помяни моего Афанасия: помер ведь он. Сегодня девятый день!..» Как помер, спрашиваю. Здоровый был еще три недели назад. «А так: бог прибрал в одночасье. Пошли с мужиками к этой лихоманке, Матрене-колдунье, да и выпросили у нее четверть. А у той самогонка-то против лихорадки настояна: с табаком. Ну и нахлебалися… Тех-то кого пронесло, кого водой отлили да молоком отпоили, а мой как зашелся, так и посинел… Да ты проходи, Коська, проходи за стол. Где ты да как ты таперича без бабки-то живешь?..» — спрашивать стала.
— Ты же про пиджак хотел рассказать, — напомнил ему Иван Артемьевич.
— А я про что? — споткнулся Костя. — К вечеру, как стали расходиться, Настасья сундук настежь и давай: это, Петро, тебе пальто на память от Афанасия; тебе, Матвей, штиблеты выходные; тебе, Николай — это брат Афанасия, — костюм ненадеванный. Все раздала… А как до меня очередь дошла, в сундуке-то ни хрена и не осталось. Настасья руками схлопала: «Ой, Костя, как это я про тебя не подумала!» И давай по избе бегать. Слетала в горницу, тащит вот этот пиджак, протянула мне: «Ей-богу, раза два или три надевал!» Я-то знаю, что Афанасий его с весны с себя не спускал… А сегодня утром, когда уходил, сапоги его отдала, рубаху новую и двое подштанников. Портянки тоже новые…
Читать дальше
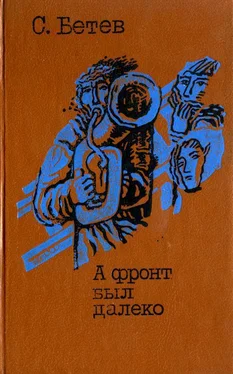

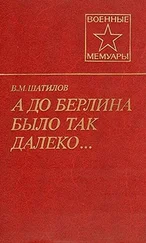
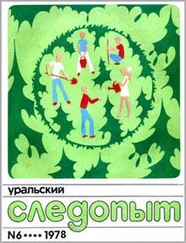

![Сергей Бетев - Без права на поражение [сборник]](/books/93327/sergej-betev-bez-prava-na-porazhenie-sbornik-thumb.webp)

