А купавинцы, извозчики уже железные, жгли себя не старыми снежными вьюгами, а горячим огнем паровозных топок, не замечая спаленных бровей, запекшихся губ и усталости, которая, прислонив к переборке будки, усыпляла на минуты с открытыми глазами, пока дежурный, бросив проволочный круг с жезлом на звонкий пол, не будил их хрипло:
— Поехали!..
Так и въехали в ту вторую военную зиму.
А она обернулась урезанными хлебными карточками, уплотненным графиком движения поездов, сыпным тифом и голодом. Но и это было бы легче перетерпеть, да оттуда, с фронта, сообщали, что насмерть стал Сталинград и отдать его нельзя. Туда катили все поезда, все эшелоны с солдатами, тысяча за тысячью молодых ребят, которые на пятиминутных остановках еще успевали улыбнуться купавинским девчонкам.
Господи! До чего же она бессердечная, эта война: обездоливает походя, бьет навзничь с улыбкой, калечит, не оборачиваясь.
Усталость деревенила душу: даже крепкие мужики спускали курки, теряли терпенье.
На Грязнушкинском разъезде перед Купавиной еще с середины лета открыли жезловку, выполов полынь на втором пути, да прибавили еще третий. Сделали это, чтобы оградить Купавину от пробок.
Там-то в октябре и застрял с воинским эшелоном дядя Ваня. Промаялся пару часов у реверса и двинулся к дежурному узнать, что за чертовщина творится.
Никита Елагин, дежурный — одногодок с Иваном Артемьевичем, только лысый, — сидел у селектора со слезящимися глазами.
— Нету у меня пути, — устало говорил в трубку. — Главный занять не могу, для пропуска он. Купавина разгрузиться должна…
У Никиты было жалобное лицо. Трубка казнила его на расстоянии, он молча разводил руками, шевелил губами и, поперхнувшись, безвольно махнул рукой.
В это время в дежурной появился молодой майор с новенькими погонами, перепоясанный по всей форме ремнями.
— Начальник эшелона, — небрежно бросив руку к козырьку фуражки, отрекомендовался он. — Где дежурный?
— Я. — Никита отхлебнул кипятка из железной кружки.
— Ты?! — Майор стал каменеть. — Ты что же это, тыловая гнида, держишь меня уже третий час?!
Не получив сразу ответа, выпрямился нервно, словно хотел подрасти еще на вершок. Приказал:
— Отправляй немедленно!
— Куда? — спросил Никита простодушно.
— Туда! — гаркнул майор, вытянув руку.
— Не могу.
— Что?! А если я тебе помогу?.. — и он выразительно положил руку на кобуру пистолета.
У Ивана Артемьевича что-то лопнуло в груди. Он стал между майором и дежурным и почти прошептал:
— Перестань егозиться.
— Что?! — взвился майор. — Кто такой? — обернулся он в поисках союзников.
Смазчик, дремавший в углу возле печи, сжавшись, только плотнее сомкнул глаза.
— Машинист я, — сам ответил Иван Артемьевич. — Твой эшелон веду.
— Стоишь, а не ведешь, — поправил его майор.
— И буду стоять, пока он не разрешит отправиться, — кивнул на дежурного. — Тут он командир.
— А если я сейчас его хлопну… чтобы ты понял?
И майор расстегнул кобуру.
— Убери дуру! — взревел вдруг дядя Ваня. — А то я!..
Он посмотрел с брезгливостью на пистолет, а потом перевел взгляд на бледного майора:
— Ох, дурень. Как же ты воевать собираешься? — И, не ожидая ответа, повернулся к двери. От порога спросил устало: — Никита, что там?
— Пробка, — отозвался Никита. — Разгружают сразу два эшелона: санитарный и с оборудованием. Через полчаса поедешь.
— У меня, понимаешь, тендер пустой, — сказал Иван Артемьевич.
— Ладно… — отвернулся Никита к селектору.
— Полчаса?! Еще полчаса?! — заорал майор снова.
— Полчаса, — уточнил Иван Артемьевич. — А ты пукалку свою положь на место, а то обронишь невзначай до срока. Не на лошади едешь… Наша дорога железная.
И вышел.
Через полчаса эшелон отправился.
В следующую поездку Иван Артемьевич поехал во френче, при всех орденах. Сослуживцы удивились, так как при орденах видели Ивана Артемьевича только по большим праздникам. Спросить не решились. Сам он молчал.
А дорога натужно гудела составами. Звоном в окнах отдавались выхлопы паровозов, втягивающих на станцию потяжелевшие поезда.
Под Новый год пал молчком без памяти у топки помощник машиниста Гришка Хромов. В Купавиной отпоили его молоком, сказали, голодный обморок. К Новому же году бабы стащили на базар все, что можно. Потом начали резать скот.
Голодная зима косила людей. В березовой роще росло безродное кладбище. Там лежали все, кого в дороге настигали и роняли болезни, голод или несчастный случай: и женщины, и дети, и солдаты, и вовсе неизвестные. К весне им и счет потеряли.
Читать дальше
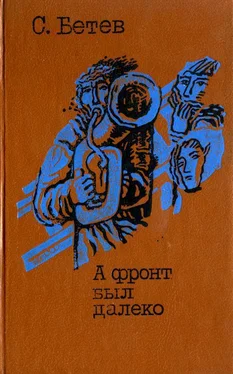

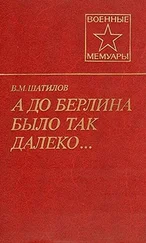
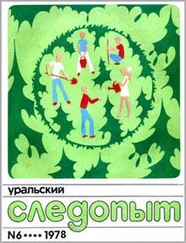

![Сергей Бетев - Без права на поражение [сборник]](/books/93327/sergej-betev-bez-prava-na-porazhenie-sbornik-thumb.webp)

