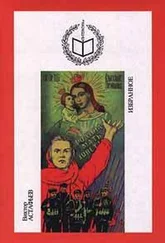– Эко! Эко! – барахталась она на дне лодки, выпрастывалась из телогрейки и ворчала: – Сила есть – ума не надо!
Отец в мокрых броднях ступал в лодку, поднимал Галку на беседку и, шатая лодку, шёл к корме, брал сначала кормовое весло, а затем шест и начинал поднимать лодку вверх по реке, до острова Заячьего, от ухвостья которого шла накосо в реку песчаная ягра – отмель, и отмель эту отмечал красный бакен.
И пока они хлопотали, собирались, поднимали лодку вверх по реке, вечер уж тихо опускался с гор. Он бесшумно выползал из глубоких распадок и перекрашивал весь мир – и речку, и лес, и горы – в свой вечерний свет.
Вечер казался Галке дедом, тихим, бородатым и молчаливым. Он курил трубку за горой, и оттого небо было там красное. Он шевелил бородой, почёсывался, и оттого колыхались тени скал в воде и шелестел осинник по горам. Деду было холодно в горах, и он с вершины сухой лиственницы глухо просил голосом филина шубу. Дед кряхтел и ворочался в лесу, укладываясь спать, и выколачивал трубку о старый сухой пень так, будто большой дятел стучал по нему.
Дед долго засыпал и успокаивался. Гасла его трубка – и остывало небо за горой. Дед дышал ноздрями распадков – и на реку оттуда выползали лёгкие полосы тумана. Они качались над водой и оседали в тальниках Заячьего острова.
Дед закрывал наконец-то глаза, не ворочался больше, не кряхтел – и всё кругом переставало шевелиться, стучать, и даже листья не хлопали ладошками, чтобы не беспокоить деда, потому что он хотя и тихий дед, а всё же сумрачный, угрюмо-молчаливый, и что у него на уме, никто не знает.
Шест железным наконечником пощёлкивал о каменное дно, шумела носом лодка, толчками подаваясь встречь быстрой воде, и Галка опускала руку за борт, слышала, как щекочет её пальцы живая и тёплая перед ночью вода.
Кулички снимались с камней, обгоняли лодку, светясь белыми подкрылками, и стригли голосами привычную песню, которая веселила Галку: «Тити-вити, тити-вити, тити-вити…»
С Заячьей протоки, обросшей у берегов водяною чумою и копытником, шумно взбив воду, поднимались утки, но не все, поднимались лишь селезни, а матери с утятами бежали по воде врассыпную, прятались кто куда, и Галка хлопала ладонями, пугая утят и неизвестно почему радуясь, что они бегут в панике по воде, прячутся в листьях и крепко сидят там, думая, что их никто не видит. А утка с вызовом и бесстрашием то подплывала к лодке, то отлетала от неё, отвлекая таким образом опасность от детишек.
На ухвостье острова отец ненадолго останавливал лодку, и Галка выплёскивала воду, скребя по дну лодки сплющенным ведёрком, а выплёскивая, начинала мурлыкать песню и видела, как утка собирала утят из-под листов и плыла по воде чуть впереди, все ещё встревоженно покрякивая. А утята строем за нею, и строй в сумерках казался единым, и только след белёсый расходился на стороны, пошевеливая копытник.
Отец клал шест под ноги, брал вёсла, отталкивался от острова и начинал выгребать к верхнему бакену, держа нос лодки наповерх. Остров отдалялся. Горы, уже слитые воедино, лес, в котором успокоился вечер-дед, – всё это оставалось за кормою. И простор реки, холодноватый и мирный, подхватывал Галку, нёс на мягких руках, покачивая и лаская.
Бывало, спашешь пашенку,
Лошадок распрягё-ёшь,
А сам тро-о-пой знакомою
В заветный сад пойдё-ёшь… —
запевала тоненьким голоском Галка и слышала одну себя и радовалась тому, что есть она, Галка, на этом свете, что отец слушал её и даже веслом негромко хлопал, чтобы слышать её лучше. И Галка пела, пела, уже забывши и про отца, и про лодку, и про деда, который хоть и привычен, а всё же жутковат, и пока он не уснёт, петь и кашлять было страшновато, неловко как-то.
Никаких детских песен Галка не знала, она жила тем, что переняла у взрослых, и песни её сплошь грустные, протяжные и про любовь всё больше:
В золотом садочке канарейка пела,
Пела так уныло, ой, голос раздавался-а-а…
Пела так уныло, ой, голос раздавался-а-а,
Молодой парнишка, ой, с девушкой про-ощался-а-а…
И как он прощался, и как ей, девушке-то, горько было, когда она спрашивала: «Куда, милый, едешь, куда уезжаешь? На кого ты, милый, ой, меня спокидаешь?…» Всё это Галка ровно бы и чувствовала и понимала, а потому и на сердце у неё делалось по-разному: то его слезами подтачивало, то озноб, возникший по коже, кололся хвоею в сердце, то вдруг тепло подкатывало к груди.
Отец ловился за бакен, вставлял в фонарь лампу, зажигал её и отпускал лодку. Её шатало, разворачивало течением, несло вниз по реке, и огонёк бакена, дружески моргая Галке, удалялся в темноту, и она пела ему, огоньку:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу