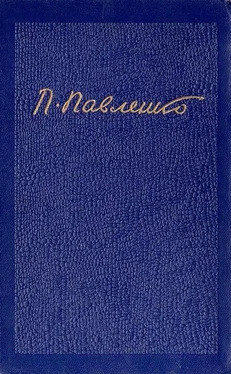— Знаете, что мы теперь сделаем? Мы зайдем в гости к Джеккеру, — сказал, подмигнув, Клавье.
Тюрьма Ла Рокетт была действительно рядом. Джеккер сидел в ней вторую неделю.
— Правильно. Заберем-ка его с собой. До парка.
Все шестеро вошли в канцелярию тюрьмы.
Франсуа, начальник тюрьмы, пристал с расспросами: «Когда вошли в город версальцы? Пять дней назад? Здорово! Пять дней! Где же они?»
— Дай нам сюда Джеккера, Франсуа, — сказал Либертон.
— Вы хотите его… — Франсуа щелкнул пальцами у виска. — А ордер?
Либертон вынул пистолет и показал. Надзиратель, не ожидая распоряжения Франсуа, вышел во внутренний коридор. Буиссон переступал с ноги на ногу… Что-то щекотало десны.
Джеккер вышел в наглухо застегнутом сюртуке, стянутом в талии. Волосы на голове были коротко подстрижены, и седеющая, с медным отливом бородка тщательно подправлена — волосок к волоску.
— Где ваши деньги, Джеккер? — спросил Клавье.
— Ничего, — подняв плечи, ответил Джеккер. — Ни сантима. Я беднее любого из вас.
— Тогда пошли, — сказал Клавье, как будто от этого именно ответа зависело остальное.
— Пошли, — сказал Джеккер.
Он на минуту вернулся в камеру, чтобы взять пальто.
— Куда вы, далеко? — спросил начальник тюрьмы, Франсуа, когда все спускались с крыльца.
Джеккер недоумевающе поднял плечи.
— В парк des Partans, — сказал Либертон безразлично. — Забираем оттуда пушки.
Они пошли улицей Ла Рокетт до кладбища, потом бульваром добрались до улицы Амадье, похожей на старческую челюсть с редкими и гнилыми зубами, — она состояла из огороженных пустырей и домов между ними, грязных стен, разметанных садиков, нескладно торчащих фабричных труб и широких просветов воздуха, колыхающего дальние очертания предместий. Они шли, разговаривая, будто ничто их не торопило. В том, что они собрались делать, крылся приятный обман спокойствия. Они говорили о пушках, о баррикаде на площади Трона, о минах, которые Гальяр собирался расставить в подземных ходах города.
Восстание было умерщвлено, они это понимали. Хаотичность версальской победы еще позволяла отдельным коммунарам бредить мужеством и спокойствием. Делеклюз, Мильер, Домбровский перестали существовать. Кто имел возможность спастись, тот спасался.
Буиссон вспомнил ночь похорон Домбровского. Солдаты Национальной гвардии в штанах из синей парусины, в коричневых рубахах, добровольцы в вязаных жилетах с люстриновыми рукавами, гарибальдийские стрелки, с ног до головы в красном, с петушиными перьями на мягких шляпах, польские легионеры в кепи с желтыми кисточками, в куртках с треугольным вырезом и бархатных рейтузах, таборы женщин и ребят валили страшным полчищем, горланя песни и выкрикивая мрачные обещания. Впереди гроба везли митральезы, и охрана шла с ружьями наперевес, так как дорога на кладбище была опасна: версальцы копошились в городе. Толпа валила валом, останавливая все встречное движение, воинские части примыкали к процессии, как к штурмовой колонне. Оркестры играли каждый свое.
Крик стоял над толпой, как в стачку. Тело Домбровского было обернуто красным знаменем. Гроб несли высоко над толпой, на вытянутых вверх руках.
«Из всех публичных торжеств революции особенное впечатление всегда производят похороны», — подумал тогда Буиссон. Прах Мирабо (в ту, Великую революцию) нес в Пантеон весь народ вечером, при свете факелов, под грозные звуки незнакомых инструментов, изобретенных Госсеком. Тело Лепеллетье де-Сен-Фаржо выставили обнаженным, чтобы все видели рану. Похороны же Домбровского были страшны и быстры, как атака. Еще когда его тело лежало в Ратуше, ассоциация музыкантов прислала струнный оркестр, исполнивший «Похоронную и триумфальную симфонию» Берлиоза. Гроб военным шагом вынесли на площадь, и скрипачи и виолончелисты начали героический марш Сен-Санса.
Они едва поспевали за гробом.
Никто никогда не видел, чтобы на скрипках играли во время ходьбы. Вскоре музыканты остановились и играли стоя. В промежутках между пьесами они бегом догоняли гроб.
Поляки всех легионов объединились в единый хор. Гарибальдийцы, у которых Домбровский был в свое время полковником, пели особо. Ораторы, чтобы произнести несколько слов, должны были занимать балконы квартир, выходящих на путь процессии, так как на мостовой задерживаться было опасно — толпа раздавила бы всякого остановившегося, даже не заметив такого несчастия.
Это был последний массовый праздник Коммуны.
Читать дальше