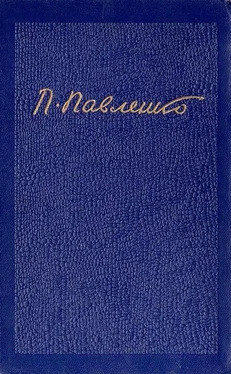Поздним вечером он проснулся. В комендатуре долго не выпускали его наружу, и пришлось передать позорное свое поведение на заседании Совета, чтобы выскочить на улицу, получив вдогонку несколько пожеланий крутой солдатской заварки.
Ночь. Ей открыты все окна. Она шарит в настежь открытом ей городе, как одна волна в изгибах и щелях берега, смывая с него пыль и травы и мешая их вместе, и путая, и отбрасывая, соединив в одно, к соседним берегам и в глубины.
Ночь. Ей открыты все окна. Ночь шарит в настежь открытом ей городе и все находки соединяет в одну. Она темно-проста, без деталей, без частностей, она как громадная точка в конце утомительной дневной фразы.
Вот подойти бы к окну, за белой занавесью которого слышны голоса, отдернуть невесомый тюль и сказать несколько слов или запросто прислушаться к разговору, посмеяться чужой шутке или кивнуть глазами в ответ на печальные рассуждения, — и не будет это ни странным, ни оскорбительным. Ночью частное не имеет значения.
Мостовые гулки. Они далеко разносят шаги пешеходов и цокот конских копыт. Они так гулки, что по ним движутся одни звуки движений, фигур же движения незаметно, — они далеко. Свободной тишины ночи не нарушает даже грохот по небу: это высоко к небу вздымается и в него бьет эхо канонады. От нее вздрагивают облака.
Но почему приснилась ему вдруг молодость? Если верить приметам, то молодость — путь. И почему — Орлеан?
Незаметно для самого себя он избирает кратчайший путь к перестрелке. Он идет, отбрасывая ногами брызги звуков. Он не щадит теперь ночи. Если ей открыты все окна, если ночь шарит в настежь открытом ей городе и все находки соединяет в одну, — пусть она бросит в окна клубок настроений из тишины, шагов одинокого пешехода и дальней канонады за стенами Парижа — тишину, шаги, канонаду, — и пусть из этого сегодня возникнут все сновидения спящих, все надежды бодрствующих, все опасения малодушных, все бреды умирающих.
Путь не запоминается. Улицы подхватывают Равэ сами собой и быстро, не запинаясь, передают его переулкам, пассажам, площадям и следующим за ними, как бы ожидающим его новым улицам. Едва улавливает он их состояние — безлюдность, темноту или освещенность. Откуда-то сбоку налетает слабая зыбь музыки. Она кажется случайно продолжающейся ото дня, вроде капели незакрытого на ночь водопроводного крана на площади. За звуками музыкальной мелодии вырастают другие. Звуки разбредаются на ночлег, как загулявшие хулиганы. Топот ног твердо проходит по воздуху, скользит вместе с уличным ветром беседа — слово здесь, слово там, а конец улетает в деревья, скрип метел кривляется, подражая шуму волны у океанского берега, и ящики у товарных депо играют в перестрелку под руками торопящихся грузчиков. Удар топора по сухому звонкому бревну прохаживается, как уличный сторож, и, — будто, бормочут в голодном сне беспризорные, — бормочет булыжник, кайлом вырванный из мостовой и ссыпаемый в кучи.
Равэ заблудился. Все в нем устало, все бредит — и слух, и глаза. Он долго приглядывается — ага, вот оно что, город давно на исходе, концы последних улиц небрежно сливаются в общие пустыри. Равэ ориентируется. Воздух полон тихой тряски от дальних выстрелов.
«Пусть убивают! Нам наплевать! Едва успев умереть, мы снова рождаемся поколением страшнее прежнего и сильнее». (Он сказал «мы», конечно, не о себе и не о череде отдельных существований, но о всех бунтарях, известных человеческой памяти.)
В его крови — так чувствовал он сейчас — текла родовитая кровь смутьянов, зачинщиков, поджигателей. Никакая даль истории не отделяла этих ощущений родства, и в гербе его рода могла быть помещена дубина или дикий камень — оружие первых бунтовщиков. Он чувствовал в себе наследственность мужества, упорства и пафоса. Они были его состоянием. Победа была узко личным вопросом. При нем или нет? Увижу или, может быть, не успею? Но что она будет — в этом не возникало сомнений. И пусть убивают! Нам наплевать!
— Не бросайте мешки, осторожно, спускайте их на веревках.
— Считайте лук! Мы имеем сорок мест лука… Сколько моркови? Тридцать? Пересчитайте морковь!
Несколько человек, высоко задрав головы, грузили мешки на ручные тележки, впрягались в них и медленно уволакивали в глубь улиц. Они работали совершенно молча, лишь иногда пощелкивая пальцами, когда им приходилось расходиться друг с другом в узком пространстве перекрестка.
Равэ остановился и в удивлении долго пытался объяснить себе эту таинственную сигнализацию. Он сам оглушительно щелкнул пальцами, когда один из грузчиков направился в его сторону, и он крякнул от сдержанного смешка, увидев, что тот быстро остановился, даже покачнувшись от резкости своего движения, и, пощелкав пальцами протянутой вперед правой руки, — будто он звал этим звуком куда-то забежавшего пса, — взял другое, уже верное направление. Равэ щелкнул еще — и другой грузчик отпрянул в сторону, озираясь недоуменно. Захохотав, Равэ быстро вошел в самую гущу работы, щелкая обеими руками. Впереди него все смешалось. Побросав мешки, люди пятились в разные стороны, наталкивались друг на друга, еще больше увеличивая так неожиданно возникший хаос.
Читать дальше