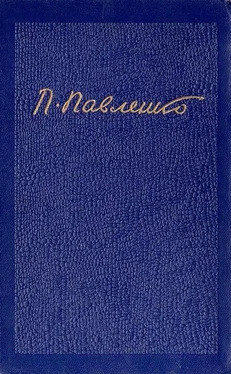Все было гигантским здесь — и все самых сильных красок, самого рослого вида, самой крепкой живучести, богатыри и герои растений.
Это были настоящие цветы, как они должны быть.
В день, стряхивающий последние капли с последних, уже тонких и дырявых туч, — цветком, храбро прыгнувшим в воздух, проносилась голодная пчела. Медленно урча, как бомбардировщик, и не приземляясь, поверху обходила она свои поля. Не успевал умолкнуть одинокий сигнал первой разведчицы, как запевал пчелиным гулом весь теплый воздух сопок. Пчела поднималась тучей и уже не умолкала до осени. А между тем, странное дело, меду нигде не было; и, чорт ее знает, где ютилась пчела и кто был ее хозяином.
Дольше становились теперь перерывы между дождями и во всю начиналась косьба.
В это лето у Лузы в «25 Октября» косили машиной, и такой шальной, веселой косовицы еще не было сроду.
Кончали окашивать Тигровую падь между колхозом и пограничной заставой, и, как всегда делалось, Луза пошел в гости к Тарасюку просить пограничников на сеноуборку.
Кирпичный дом заставы стоял на берегу реки, за которой лепился скучный китайский городок. Он был так близок, что крики китайских детей пугали цыплят на заставе.
Луза шел, без интереса разглядывая давно знакомый и чужой город, в котором он перебывал сотни раз и никогда не видел ничего путного. У реки гуляли две женщины в лиловых халатах. В кустах, на самой границе, рылись куры. Три водоноса визгливо ругали огородника Ван Сюн-тина, равнодушно курившего трубку. Он увидел Лузу и кивнул ему из-за речушки, как старому знакомому.
— Опять он их, видно, накрыл, — сказал Луза, взбираясь на второй этаж к Тарасюку. — Ох, и жмот, собака!
— Ван Сюн-тин-то? — спросил Тарасюк, из окна которого эпическая картина этой крохотной стычки была видна превосходно. — Жмот совершенно бессовестный, но огородник он, скажу я тебе, первоклассный. Я из окна гляжу, что он делает, и у себя сейчас же повторяю. А вот скот у них дрянь, — сказал Тарасюк, показывая на выгон, правее города, — кошачьей породы скот.
— При ихней системе на себе легше пахать. Вчера этот самый Ван Сюн-тин выгнал двух баб, запряг их в соху вместе с ослом — и давай ковырять. Скорчились, тянут, как собаки, еще песню мало-мало поют.
— Интересная агитация для нашего брата, — сказал Тарасюк, беря бинокль и задумчиво наводя его на холм за городом.
Луза, не нуждавшийся в бинокле, поглядел туда же. В одно мгновение схватил он внутренним зрением знающего человека сотню движений городской жизни.
— Что скажешь? — спросил Тарасюк, следя за лицом Лузы и протягивая ему бинокль.
— Да-да. И давно заметил?
— Вчера.
— Здорово.
— Видно, на удар взять нас не рассчитывают, на оборону садятся, — сказал Тарасюк, глядя на черные фигурки японцев, занятых рытьем окопов на холмах вокруг городка.
— Что ж, — вздохнул Луза, — господи Иисусе, вперед не суйся, как говорится.
Еще стояло утро, но, возвращаясь с заставы домой, Луза принял его за ранний вечер. Вот так и старость приходит — нечаянно. Его сегодня злила опасность из-за реки. Он поминутно набивал, скуривал и вновь набивал спою сипучую трубочку.
Но еще стояло утро. Ворча, толкались пчелы о пухлые, неповоротливые цветы. Наваливаясь на солнце, громоздились пегие тучи, и оно застревало и замирало в густой шуге их, и жар зримо, медовым следом растворяющийся, не спеша оседал на землю с тончайшим металлическим тоном, похожим на голос цикад.
Луза шел вдоль реки, по сторожевой тропе. Страна кончалась у его ног. Никогда не чувствовал он, как сегодня, что идет не по области, не по своему району, а по земному шару, и волновался.
Вот эта линия, по которой ступает он, отмечена на всех картах мира. Здесь нет ни сел, ни городов, ни пашен. Земля пуста.
Но когда, стоя на ней, глядишь, как за неширокой рекой за дорогой или за линией кустиков и камней начинается не наша, чужая сторона, а в полусотне метров стоит чужой внимательный пограничник и за его спиной распростерт вид чужих, не наших деревень, с чужой, не нашей жизнью, — тогда кажется, что все иное на той стороне — и трава там другая, и воздух разный; и узкая полоса своей земли у границы становится дороже всего на свете. Все мило на ней, все значительно.
И ему стало жалко своей земли, на которой много лет стоял он, как живой пограничный столб.
Жена сказала Лузе:
— Ван Сюн-тин заходил, спрашивал, когда дома будешь.
Поздним вечером Ван Сюн-тин тихонько постучал в окно.
— Плохо дело, Васика, — сказал он. — Японса граниса цемент возит.
Читать дальше