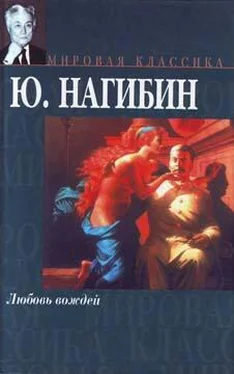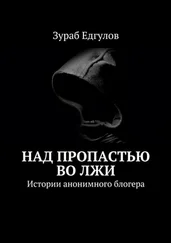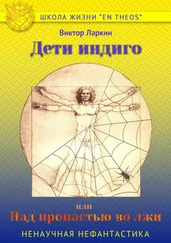Но по-настоящему мое литературно-торговое предприятие расцвело в нынешнем году, когда сбор материалов взяла в свои руки Леля. Я был слишком робок, застенчив, пуглив. Сталинский избирательный участок находился у черта на куличках — на площади Журавлева в каком-то клубе, каждая поездка туда оборачивалась для меня мукой. Я с детства не доверял окраинам Москвы. Попадая туда, я чувствовал себя дальше, чем за краем света, и мучительно рвался назад, в милую привычность Чистых прудов. Став постарше и осознав свой болезненный страх перед окраинами, я принялся то ли дразнить, то ли бороть его. Я выбирал наиболее дальние трамвайные маршруты, такие, как 3, 4, 16, 21, 24, 48, 51, и ехал до какой-нибудь Абельмановской заставы, или Черкизова, или Наримановской улицы в Сокольниках, где Москва поникала под старыми, некрасивыми, задымленными деревьями, низенькая, опасно смиренная, двусмысленная. Там веяли ветры чужой печали, душу сжимало одиночеством, и я почти со слезами хватался за поручень трамвая, уходившего в обратный путь к моей Москве, моему милому, бедному дому, которого мне всю жизнь не хватало, даже когда я безвылазно сидел в четырех стенах.
Мне так и не удалось рассчитаться до конца ни с детскими привязанностями, ни с детскими страхами, в тридцать лет я все равно боялся окраин. Площадь Журавлева и прилегающие кварталы были мне особенно страшны нелепыми, громоздкими вкраплениями современности в низкорослость недоброй старины. В ночном небе черно и жутко вздымалась махина кинотеатра «Родина», желтый, печальный свет тускло растекался по безобразной громадине Театра имени Моссовета. К тому же там проходила железная дорога, я не мог без сердечного озноба слышать тонкие, щемящие переклики паровозов. В марте вообще трудно жить, особенно вечером, в тревожной волглой мартовской городской темноте, и уж вовсе невыносимо — на окраине, в близости железнодорожных путей, горько пахнущих шлаком, окалиной, мигающих тревожными огнями, стонущих неистовой паровозной печалью.
Собирая материал, я стремился к одному: скорее прочь, скорее под родимый кров. Так не сделаешь карьеры журналиста. Леля не раз выручала меня за нашу недолгую совместную жизнь, она пришла на помощь и теперь. Отныне мне оставалось лишь облекать в слова тот горячий, огнедышащий, простой, грубый, как сама жизнь, невероятный, как сама жизнь, материал, который приносила Леля из своих бесстрашных вылазок в грозную державу, именуемую площадью Журавлева.
Из открытой форточки, острым углом натянувшей дешевую выгоревшую занавеску, послышался злобный, по-утреннему нервно-сорванный крик, а затем глухое, неразборчивое матерное бормотание. Значит, шестилетний сын наших дворников: Феди Цыгана и Настехи, живших под нами в котельной, уже выскочил во двор, в шубейке и валенках на босу ногу, сонный, теплый от постели, и попытался нацарапать гвоздем на крыле соседского «опеля» единственно доступное ему коротенькое слово. Сосед, как и всегда, проснулся при первом же скребущем звуке, истошно закричал на мальчонку, а тот ответил ему матерным бормотком.
Коль уже разыгралась эта обязательная утренняя сценка, Леле пора вставать и ехать на избирательный участок, иначе она опоздает на собственную работу. Что это за работа, для которой безразлично — будни или праздники на дворе, работа, начинавшаяся необычно поздно, а кончавшаяся чуть ли не в полночь, я не знал да и не стремился знать. Я боялся открыть нечто не то чтоб стыдное, но способное ненужно осложнить наши отношения. Считалось, что Леля преподает не то заочникам, не то экстернам, словом, кому-то незримому, кроме того, переводит для одного известного, слишком известного, чтобы подвергать его сомнению, историка-академика с ближневосточного на дальневосточный, или что-то в этом роде. Но я бы не удивился, если б оказалось, что Леля тачает сапоги, или незаконно выращивает скакунов, или ведет подпольную торговлю вуалехвостками и виктория-региями. Впрочем, чем бы она ни занималась, ей надо вставать. Я тихонько потряс ее за плечо…
…Я слышал, как Леля одевается, делал вид, что сплю. В первые минуты после пробуждения женщины особенно падки на благодарную нежность, и Леле достаточна была самая маленькая малость, чтобы начать умиляться мною и еще больше опоздать на избирательный участок. Она нарочно уронила ботинок на пол, но я не открыл глаз.
— Так я пойду, — печально сказала Леля и села на тахту.
Я старался дышать как можно ровнее, чтобы она не обнаружила притворства.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу