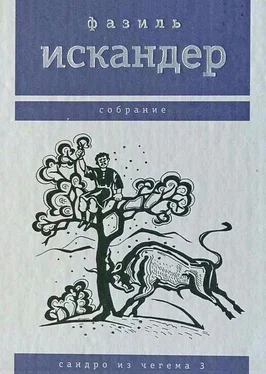Это был солнечный старик с ясной, веселой головой. Уже после окончания института, живя в родном городе, Зенон частенько захаживал к школьному другу, и старик охотно проводил с ними вечера за выпивкой, спорами, шутками и даже шутливыми ухаживаниями за их девушками.
Зенон вдруг отчетливо, словно все это происходило вчера, вспомнил слова старика на одной вечеринке у школьного товарища.
— Крепче прижми ее! — азартно крикнул старик под общий смех, обращаясь к Зенону, танцевавшему с любимой девушкой.
Странно, подумал Зенон, что я в Москве почти никогда о ней не вспоминаю. Словно все, что было тогда, осталось на том берегу жизни. И сейчас Зенон, вспомнив, вернее, услышав тот давний возглас старика, подумал, что возглас его был провидческим.
Как будто Зенон не танцевал со своей девушкой, а входил с нею в реку, а старик, перекрикивая шум потока, предупреждал, что ее может смыть течением… Впрочем, никто ничего не знает.
Школьный товарищ жил на улице, где проходило детство Зенона, и многие там все еще его помнили. Ему всегда как-то стыдно было, приезжая в родной город, заходить на улицу детства. Он как-то никогда не мог взбодрить ее обитателей не только общим выражением счастья на лице, но даже хотя бы выражением частых удач. И хотя удачи были и успехи были, но как-то сама личность Зенона, его лицо и одежда не хранили следов этих успехов и удач. Улица хотя и доброжелательно здоровалась с ним, улыбалась ему, но все-таки, провожая его взглядом, как бы говорила: «А стоило ли так далеко уезжать, чтобы приехать с таким лицом?»
Вероятно, думал Зенон, каждый, кто всерьез берется за перо, осознанно или неосознанно обещает сделать людей счастливыми. И вот человек пишет и пишет, проходят годы, он приезжает в родные места и тут-то спохватывается, что никого не осчастливил. В родных местах это хорошо видно.
И хотя люди, которых он хотел осчастливить своим творчеством, ничего такого и не ожидали от него, но, глядя на его лицо с явными следами смущенной неплатежеспособности, смутно догадываются, что им чего-то было обещано, но обещание оказалось шарлатански несбыточным.
В общем, тут была какая-то хроническая неловкость. Поэтому, когда машина остановилась возле дома школьного товарища, Зенон выскочил из нее и, кивая соседям, быстро, не давая им как следует вглядеться в свое лицо, даже как бы зачадрив его траурной целеустремленностью, вошел в дом товарища, чтобы перед отлетом выразить ему соболезнование.
Увидев его, товарищ разрыдался, явно вспоминая их далекие, милые вечера. Зенон обнял его, трясущегося от рыданий, прижал к себе и постарался успокоить. Через несколько минут тот немного успокоился, достал платок, тщательно вытер им глаза и вдруг, приосанившись, сказал Зенону с интонацией самоутешения:
— У тебя трое умерло, а у меня все-таки один…
Как он был хорош, подумал Зенон, когда рыдал у меня на груди, и как стал жалок и беден, когда попытался при помощи логики себя утешить. Не чувствуя никакой личной обиды, Зенон попрощался с этим несчастным человеком и уехал в аэропорт.
29. Большой день Большого дома
Середина лета 1912 года.
В жаркий солнечный день во дворе Большого Дома под сенью яблони на овечьей шкуре сидела двенадцатилетняя Кама и кормила своего племянника Кемальчика.
У подножия яблони на деревянной колоде сидел ее самый старший брат Сандро и рассказывал своему гостю веселые истории из своей еще совсем молодой жизни.
Этот гость здесь появился случайно. Он шел из села Наа в Чегем к своим родственникам. Сандро от нечего делать перехватил его на верхнечегемской дороге, обещав угостить хорошим обедом, как только придут русские геологи, которых он ожидал. В ожидании геологов, которые все не приходили, Сандро угощал его своими байками. Гость тоже пытался поделиться своим жизненным опытом, но Сандро после первых же попыток подавил гостя, то и дело приговаривая:
— Да это что! Вот ты послушай, что со мной было!
Кормя младенца, Кама прислушивалась к веселым историям своего брата. Но больше, чем эти веселые истории, ее смешило то, что гость брата из вежливости начинал смеяться раньше, чем надо было смеяться. Очень уж он боялся прозевать место, где надо смеяться, и это было смешнее всего. Кама, кажется, не без оснований, находила этого неведомого гостя туповатым.
Она держала в руке миску с тюрей из кислого молока, куда накрошила чурек и ломтики свежего огурца. Рот малыша сначала охотно разевался навстречу костяной ложке, а потом Кемальчик стал все ленивей открывать его, рассеянно озирая двор своими большими черными глазами, время от времени пытаясь выплюнуть изо рта кусочки огурца, но девочка ловко заталкивала их назад. Наконец малыш сердито замотал головой и сказал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу