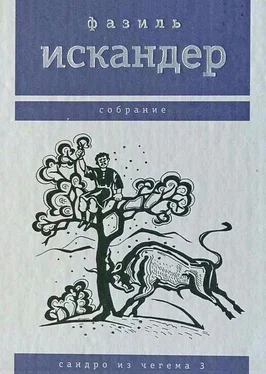— Никуда вы не поедете! — крикнул хозяин из кухни, — еды у нас, с Божьей помощью, хватает! Лошадям вашим я навалил кукурузной соломы, а вино в сарае. Там кувшины зарыты. Помогите мне пробить тропу, а потом мы засядем и будем пить от души. Или снег нас раздавит, или мы его перепьем!
Славный человек! Мы, конечно, с другом помогли ему. К хорошему вину я не то что сквозь снег, сквозь землю пророюсь. А все же часа три проковырялись, пока дошли до сарая. Потом и с крыш сгребли снег. Три дня пролетело между стаканами. Снег тает, а мы пьем. Мы пьем, а снег тает.
Оказывается, лучшего в мире удовольствия нет, как во время Большого Снега сидеть в теплой кухне перед гудящим огнем и, потягивая хорошее вино, дожидаться погоды. Мне даже показалось, что снег слишком быстро растаял. Мог бы еще полежать…
Тут гость вовремя рассмеялся и решился рассказать, где и как он пережидал Большой Снег. Но Сандро, слушая гостя, окидывал его таким снисходительным взглядом, словно хотел сказать, что Большой Снег гостя уж явно был поменьше его Большого Снега. И гость от этого взгляда скучнел и как-то сбивался.
Рассказ гостя Каме показался неинтересным, и она, лежа на спине с Кемальчиком, сидящим на ней верхом, прислушалась к голосу брата, доносящемуся с веранды.
Оказывается, Робинзон на своем острове внезапно заболел лихорадкой, испугался, стал каяться в непослушании отцу и попытался лечиться водкой, сделав настойку из табачных листьев. Навей довольно правильно догадался, что ром это нечто вроде водки.
— А-а-а, — язвительно проговорила бабушка и, придержав челнок в правой руке, взглянула на внука: — Как подперло, так вспомнил отца! А когда отец учил его уму-разуму — не слушался. Так оно и бывает! Запомни! Хороший человек старается жить и умереть там, где он родился. Нехороший человек твой Робинзон!
— Бабушка, — воскликнул внук, — если ты будешь так говорить, я тебе ничего не стану рассказывать!
— Читай и рассказывай! Мне бы только узнать, чем это все кончится, иначе бы я и слушать про твоего Робинзона не стала. Он даже не знает, что во время лихорадки надо пить водку с перцем, а не совать туда табачные листья. Дуралей он и есть дуралей! Нечего заступаться за него! Лучше принеси мне из кухни огня!
Она взяла со скамейки, стоявшей рядом, трубку с длинным мундштуком и, когда внук принес из кухни небольшую головешку, прикурила от нее и, с удовольствием распрямив спину, потягивая дым, оглядела двор. Навей отнес головешку в кухню и зашвырнул ее в очаг. Вернувшись, он поудобней уселся на своей скамейке и положил книгу на колени.
— Талдычь дальше! — сказала бабка, не глядя на внука. Мальчику было неприятно слышать такие слова, но он смолчал. Ему почему-то нужен был слушатель, хоть и не понимающий русского языка, но все-таки слушатель. Бабка осторожно положила на скамейку дымящуюся трубку и взялась за челнок, под щелканье которого Навей продолжил чтение, все больше и больше воодушевляясь от собственного голоса.
Братья на приусадебном поле затянули песню. Сандро внимательно прислушался к ним, всем своим видом показывая, что он и не собирался ограничивать свою любовь к пению знанием только застольных мелодий.
— Иса слегка подвирает, — признался Сандро гостю, продолжая прислушиваться и в то же время как бы приоткрывая ему, как близкому человеку, некоторые семейные тайны, — а Кязым у нас ушастый. Он не только наши песни поет, но и грузинские, и мингрельские, и греческие песни. Он даже эндурские песни поет, хотя никто его об этом не просит. Но он ушастый! Все, что ни услышит, так и застревает там. А бедняга Иса всегда подвирает…
— Это от природы, — уныло согласился гость, почему-то стыдясь признаться, что он вообще никакого Ису не знает, и ушастость Кязыма ему совершенно ни к чему, и непонятно, зачем он здесь сидит в ожидании каких-то геологов, когда уже давно мог пообедать в доме у своих родственников.
В это время мать Камы вышла из кухни, неся в переднике кукурузу.
— Цып! Цып! Цып! — раздался ее голос. Озаренная солнцем, полная, уютная, она стояла посреди зеленого двора в своем сером домотканом платье, и со всех сторон к ней бежали куры, петухи, поспешали, как бы стесняясь своей тяжеловатой неловкости, индюки.
Золотистые горсти кукурузы, просверкнув на солнце, падали в гущу квохчущих птиц. В птичьем хозяйстве Большого Дома было два карликовых петуха и две карликовые курицы. Карликовые петухи, ростом не больше цыпленка, были такие злые и отчаянные, что большие петухи всегда отступали перед ними.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу