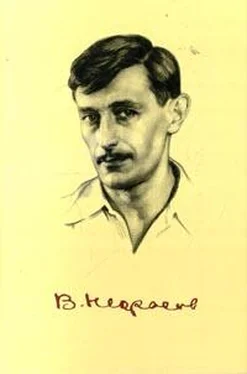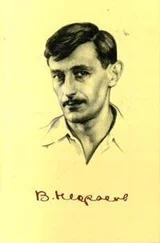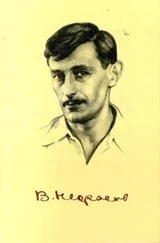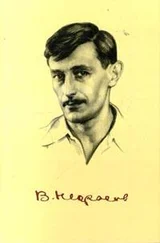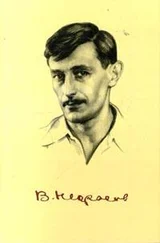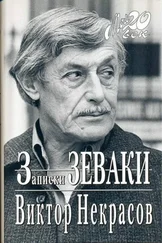Он стоял у двери с картиной под мышкой и все почему-то не уходил.
– Пришла бы хоть, прибрала. И вообще, почему ты чаем не угощаешь?
– А ты хочешь? – Шура подняла голову.
– Хочу. Или, вернее, домой не хочу. Поставь-ка чайник.
Шура вышла на кухню, потом вернулась. Сергей опять удобно расположился в плетеном кресле и положил ногу на перила – последнее время она стала у него почему-то отекать.
– Помнишь, как ты меня тогда все обедом угощала? – сказал он смеясь. – А я все отказывался, говорил, что тороплюсь куда-то. А Федя твой все по карте мне показывал, какие города наши заняли. Помнишь?
Шура поставила на стол два стакана, баночку с повидлом. Подложив дощечку, стала резать хлеб.
– А где он сейчас? В Риге все?
– В Риге.
– Пишет?
– Нет.
– А в общем, неплохой парень. – Сергей рассмеялся и подмигнул одним глазом. – Чем он только тебя опутал, никак не пойму. Пацан ведь…
Шура серьезно посмотрела на Сергея.
– Ты знаешь, я не люблю, когда ты так разговариваешь. Мне это неприятно.
– Ладно, ладно, не буду, – он опять рассмеялся. – Нельзя уж и подразнить. При Кольке же я не говорю.
– Николай здесь ни при чем, – сказала Шура.
– То есть как это – ни при чем? Муж, и ни при чем? Вот это мне нравится.
Шура подошла к шкафу и, не поворачиваясь, сказала:
– Николай здесь больше не живет.
– Как не живет?
– Очень просто. Не живет, и все.
Сергей свистнул. Подошел к Шуре, потом к столу, опять вышел на балкон.
– Я ему переломаю все кости, – тихо сказал он. – Все до одной. Понятно?
Шура так же спокойно ответила:
– Нет. Ты ему ничего не сделаешь.
– Нет, сделаю.
– Тогда уходи домой. Если будешь так говорить, уходи домой. И не появляйся здесь!
Шура была совершенно спокойна. Немного побледнела, но спокойна.
– Пей чай, – сказала она. – Ты ведь чаю хотел. Сахару только нет. Придется с повидлом.
– А ну его!..
Сергей откинулся на спинку стула и долго смотрел в потолок: большая трещина, начинавшаяся около розетки, извиваясь, ползла от одного угла к другому.
Николай сидел в скверике против университета.
В институт он опоздал. Последние спешащие на работу служащие торопливо прошли через сквер. Появились первые няньки с младенцами. Вокруг памятника Шевченко пышно цвели какие-то цветы, ярко-красные и желтые, на длинных стеблях. В прошлом году их не было, тогда только жиденькая трава росла. Университет обносят забором – собираются восстанавливать. С деревьев тихо падают первые одинокие еще листья кленов – верный признак жаркого лета и близкой осени.
Николай на всю жизнь запомнит этот день. И эти цветы. И этого мальчика в штанах из плащ-палатки, старательно лепящего на песке городок возле фонтана. И самый фонтан – гипсовый карапуз с уткой в руках, а у утки отбита голова. И этого медленно бредущего старика с козлиной бородкой – не капельдинер ли это из оперы? Нет, не он… И садовника, волочащего по дорожке кишку…
Второе сентября 1945 года… В этот день кончилось что-то очень большое, очень важное.
И сколько раз уже оно кончалось. Кончалось и начиналось. В сороковом, когда он женился на Шуре, и в сорок первом, когда вспыхнула война, и через три года, когда врачи испытывали его руку электрической машинкой. И потом, когда он вернулся к Шуре, когда стал инспектором, когда поступил в школу. И вот сейчас опять.
Николай сидит на скамейке и старательно ковыряет оторвавшийся кусок коленкора на чемодане. В чемодане белье, несколько книжек, бритвенный прибор и Шурина карточка, та самая, где они сидят вдвоем. Они снялись перед самой войной. В воскресенье, как раз за неделю до начала войны. И в этом же скверике. Только ближе к бульвару, там была фотография – голубенький павильон с замазанными белой краской окнами.
И все это позади…
Когда год тому назад он пришел к Шуре и увидел ее плачущей, с тряпкой в руках, ему вдруг показалось, что вернулось прошлое и что лучше этого прошлого – дружного, хорошего, о котором так мечталось всю войну, – нет ничего на свете.
Но не получилось это дружное, хорошее, прежнее. Ну вот, живут они в одной комнате, живут тихо и мирно, и Николай старается не думать о Вале. Но ведь все это не так, все это обман: и то, что они живут вместе, что это семья, и то, что он не думает о Вале…
Как трудно было об этом говорить! Шура допивала свой чай, сосредоточенно разглядывая стоящую на столе сахарницу с отбитой ручкой, и только кивала головой – она понимает, она все понимает. И лицо у нее было такое, как всегда, только губы плотно сжаты. И ни одного упрека, ни одной слезинки.
Читать дальше