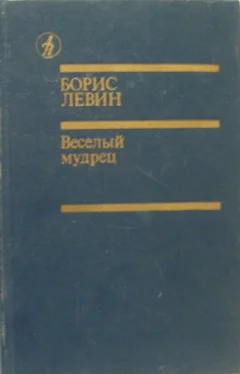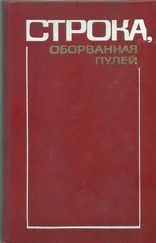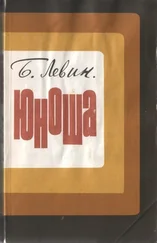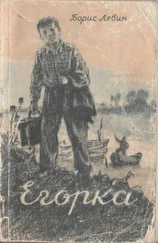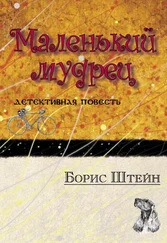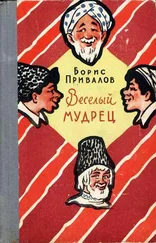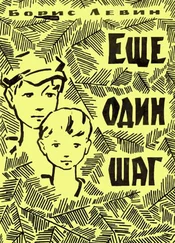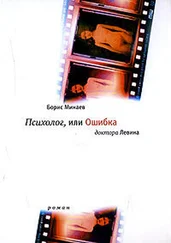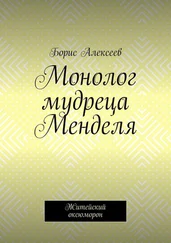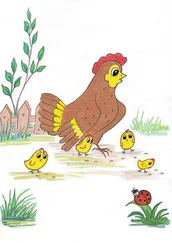— Ишь, бисовы диты, — довольно бормотал Лука, отпуская между пальцами вожжи, — быстры стали. Ну, бегите!
Он бы и сам побежал, если б мог.
— Значит, доехали?
— Можно сказать, дома. Заждалась моя Устя. Да и я... — Лука запнулся, махнул рукой влево, на пригорок, тянувшийся за рядами тополей. — А вон там и ваша хата.
Возок затрясло, Ивана швырнуло вправо, откинуло назад. Он выпрямился, ухватясь обеими руками за грядки, и, когда выехали на ровное, внимательно присмотрелся.
Дом, стоявший на пригорке, выглядел, против крестьянских хат, щеголем, красовался лепными карнизами, невысокими колоннами у входа. С непонятным чувством тревоги всматривался молодой учитель в полукруглые, холодком блестевшие окна. Что ждет его в этом доме? Как встретят его? Найдет ли он здесь то, чего ищет? А дом между тем, по мере приближения к нему, терял свою щеголеватость, становился приземистее, превращаясь в подобие крепости с массивным забором вокруг.
Никто, кроме дворовых, учителя не встретил. Один из слуг — пожилой дядька в кафтане — проводил его через множество коридоров и переходов в дальнюю комнатку, сказал, что господа уже легли отдыхать и потому ужинать ему придется в людской, пусть он сойдет туда, как только управится после дороги, а ежели не желает идти, то ему принесут.
— Нет, — ответил Иван, — нести не нужно. Умоюсь с дороги, переоденусь — и буду готов. Да, вот как пройти в людскую?
— Коридором до конца и налево вниз. Кухарка Дарья вас накормит. Она знает...
Двое дворовых втащили весь его багаж — ящик с книгами, сундучок с вещами и корзину с мелочью. Составили все это у двери и, поклонившись, тотчас ушли. Ушел и дядька в кафтане.
Лишь теперь, оставшись один, Иван присел к столу и огляделся. Комната небольшая, но в ней, кажется, есть все необходимое одинокому человеку. В углу — кровать, напротив — комод красного дерева, на нем — небольшое круглое в резной рамке зеркало. Позади комода — этажерка для книг. Стол с выдвижными ящиками — у самого окна, подсвечник и три свечи в нем. При входе — большая лохань и глиняный кувшин с водой, там же, на крюке, — полотенце. Встал, облокотился о подоконник. Осенний сад, засыпанный листвой, неярко освещенный лунным светом, уходил куда-то в густую темень, пропадал за бугром. И здесь, в доме, и там, в саду, — ни звука, тишина первозданная, только сторож, ходивший по двору, изредка нарушал ее, постукивая в колотушку.
Вот куда забросила его судьба — в настоящий медвежий угол, оторвала от знакомых, родных, друзей. Но ведь он сам хотел этого, и, стало быть, некого и незачем упрекать...
Сбросив верхнюю одежду, Иван помылся, надел все свежее и собрался идти в людскую, но, по совести говоря, он, кажется, не так уже и голоден, чтобы торопиться, а главное, как идти, не разобрав книг, не проверив, в порядке ли они, не подмокли в дороге и что с бумагами? Подвинув к этажерке стул, поставив поближе подсвечник, он открыл ящик.
Вот они — книги. Одна возле другой. Дорога нисколько не повредила им. Дождь не подмочил. Херасков, Княжнин, Шекспир. Два списка сатир Антиоха Кантемира и его же переводы из Горация и Анакреонта. «Телемахида» Тредиаковского, «Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку» Николая Осипова, которую по случаю год тому назад перекупил у Миклашевского, а последний достал ее в Харькове, у своего дядюшки. Учебники: русской грамматики, арифметики, «Правила пиитические» Аполлоса Байбакова. А вот римляне: Гораций, Вергилий... И тетради. Теперь он сможет писать. В дороге успел лишь кое-что набросать на случайных клочках. Песню о Зализняке, притчу о панах и пидпанках, еще одну песню, услышанную от того же Харитона Груши, несколько анекдотов, присказки и те две строчки, записанные на стоянке вблизи Майорщины.
Всю дорогу из Полтавы в Коврай — все эти восемь дней и ночей, — слушая попутчиков и случайных встречных, сердцем впитывая их рассказы, предания, песни о прошлом родного края, Иван неотступно думал об одном и том же: какой силы поэтическое слово достойно услышанного? Как рассказать о жизни, неустанной борьбе, думах, быте, нравах и обычаях своего народа? Писать по-русски и называть вещи своими именами? Это заманчиво, но, с другой стороны, вряд ли такое произведение добавит что-нибудь нового к тому, что уже известно в русской литературе. И кроме того, вещи называть своими именами небезопасно. Подобная поэма будет тотчас запрещена и, естественно, к людям не дойдет. Разве можно забыть печальной известности историю книги Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»? Изданная три года тому назад, эта страдалица, как только стала известна двору, была тотчас сожжена. Подумать только — сожжена, предана аутодафе. Автора же — этого бесстрашного, великого Духом мужа — «всемилостивейшая» императрица велела казнить, а потом смертную казнь заменила ссылкой в Сибирь, в Илимский острог «на десятилетнее безысходное пребывание». А какова история пьесы Капниста «Ябедник»? Не та ли участь постигла и ее? Правда, автор не был сослан, но путь к зрителю его произведению преградили.
Читать дальше