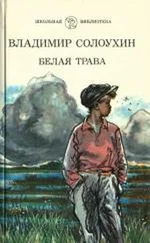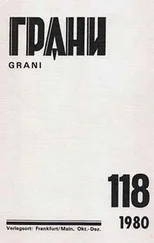Впрочем, я не совсем прав, говоря, что к этому проселку вовсе не притрагивалась рука человека. Наоборот, сколько я себя помню, всё потихонечку строили там шоссе от Ставрова к Кольчугину. Намеченная дорога проходила через Черкутино, в четырех километрах от нашего села. Но все время строительство это находилось на одном и том же месте.
Первоначальной энергии хватило на то, чтобы выкопать канавы по сторонам воображаемой дороги. Весной канавы эти наполнялись водой, и вода, сначала быстро пересыхавшая, застаивалась год от году все дольше и дольше. Откуда ни возьмись, появился тут рогоз – растение болотное. Черные бархатные шишки его красиво разнообразили полевой пейзаж. На самом полотне, то есть между двумя канавами, постоянно сидели в том или ином месте несколько рабочих с молотком в руках, а около них лежала куча камней. Они укладывали камни один к одному рядочком и успевали продвинуться за лето, может быть, даже на километр. Потом наступала зима.
Весной вода размывала мощеный участок дороги, вымывая из-под камней грунт, надо было чинить, латать, подновлять. Пока несколько лет возились с одним участком дороги, предыдущий, считавшийся законченным, приходил в совершенную негодность.
Дело было в том, что строительство это осуществлялось не государством, а местной дорожной организацией. Окрестные колхозы обязаны были привезти столько-то подвод камней, а колхозники предварительно должны были эти камни собрать. Другие колхозники выделялись для земляных работ на дороге. Но все это делалось вяло, в мизерных масштабах и, кажется, совсем не оплачивалось. По крайней мере, на днях мне соседка Маруся Кузова рассказала, как их в те времена посылали собирать камни (по стольку-то кубометров на женщину) и как они закладывали в середину пни и коряги, а сверху насыпали камней. Кучи камней, собранные ими, и сейчас еще, вот уже двадцать лет, лежат в лесу. Они заросли травой, кустами и похожи на неведомые, загадочные могилы, так как имеют продолговатую прямоугольную форму. Значит, важно ли, что у них в середине: пни, коряги или те же камни?
Дорожные мастера, как правило, были пьяницы. Не зря Юрка Семионов сказал про двух из них, что они, если бы захотели, давно уж могли бы замостить эту дорогу пустыми бутылками.
Однако я должен отвлечься и рассказать про то место, где происходила главная заготовка камней.
Один из оврагов, глубоко разрезающих то там, то тут наши поля, не успев начаться как следует, врезался в густые заросли Самойловского леса. В поле это был овраг как овраг: склоны его устланы тяжелыми, толстыми коврами из луговых и полевых цветов, а дно постлано одноцветной дорожкой из яркой сочной осоки, под которой и в самую жару держится, просачиваясь из земли, ржавая влага.
Но как скоро овраг попадет в лес, картина меняется. Огромные обомшелые ели растут по склонам, почти смыкаясь наверху, цепляясь друг за дружку мохнатыми длинными лапами. Уж не медовый, а грибной запах держится на дне оврага, который, впрочем, не называется больше оврагом, но буераком. Лесная малина, крапива, буйные папоротники, волчье лыко, бересклет, кусты орешника – все перемешалось там, иной раз и не продерешься, не исцарапавшись и не острекавшись крапивой. По ночам филины орут в буераке, как будто кого-нибудь душат разбойники, схватив за горло и надавив коленкой на грудь, а днем в небе парят коршуны, и парение их кажется выше оттого, что смотришь с глубокого буерачного дна.
На дне буерака не ржавая сквозь осоку течет водичка, но по чистому, обильно усыпанному камнями дну струится чистая холодная вода, которую так сладко пить, когда в жару объешься спелой земляникой, созревшей тут же поблизости. Неудобно нагибаться и перевешиваться вниз головой в узкое, глубоко прорытое руслице, поэтому срежешь длинный пустотелый стебель травы и через метровую трубочку эту жадно втягиваешь холодящую гортань влагу. Скорее всего, она не пахнет ничем особенным, но поскольку пьешь и в это время дышишь лесным воздухом, вдыхаешь в себя все запахи леса, то и кажется, будто вода тоже пахнет и немного малиной, и немного мятой, и папоротниками, и всякой лесной чертовщиной.
Возле самой воды, в густых зарослях, вдруг увидишь подвешенное к стеблям гнездо крапивницы или выдолбленное в трухлявом осиновом пне гнездо мухоловки-пеструшки. Вход в гнездо не более пятикопеечной монеты. Какова же должна быть сама пичужка, насколько же малы ее чисто голубенькие яички и каковы же выводятся из них птенцы! Но не часто обнаружишь искусно свитое, искусно спрятанное в буйной зелени гнездо, хотя их должно быть очень много вокруг: весь буерак сверху донизу наполнен щебетанием, пересвистом, перещелкиванием и перепархиванием птиц.
Читать дальше