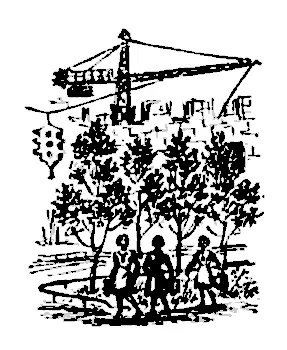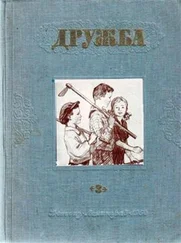Литературно-художественный альманах «Дружба», № 3

В. Азаров
Улица Маяковского
Рис. И. Сидикова

Здесь жил
двадцатилетний Маяковский.
Январской ночью,
вглядываясь в тьму,
стоял он
на безлюдном перекрестке
Жуковской и Надеждинской.
Ему
хотелось отыскать
такое слово,
чтобы оно своею
простотой,
призывом,
болью,
правдою суровой
боролось
с вековою немотой.
Как горьковский
отважный буревестник,
Он бурю ждал.
Ее он торопил,
чтобы в могучий лад
Октябрьских песен
войти
всей полнотой душевных сил!
Чтоб на века
в его строке
остался ветер вольный
И ленинская речь
с броневика,
И осененный
красным флагом Смольный!
… В военный год
я шел по Маяковской.
Темнели доски
деревянных штор.
Шагал пустынной улицей
матросский,
наш город охраняющий
дозор.
Обугленная
синяя дощечка
Стучала
по обломкам косяка.
За Невским
грохотал обстрел зловещий…
Но ты сильней
смертельного врага,
Товарищ фронтовой,
строка живая!
Я услыхал,
на радиоволне
Гремело слово,
залп опережая.
Был Маяковский
с нами на войне.
…С тобою мы идем
по Маяковской,
У дома,
где когда-то жил поэт,
Здесь
веет краскою, известкой,
лежит на свежей кладке
солнца свет.
Идут ученики
из новой школы.
Шумят листвой прозрачной
деревца.
В распахнутые окна
новоселов
лип
молодая падает пыльца.
Мы слышим
стройку славящее слово,
Стократно повторенное кругом,
И кажется,
что Маяковский снова
В водовороте движется людском.
Ступает
широченными шагами
По обновленной
улице своей,
И пристальными
добрыми глазами
Глядит на нас,
на школу,
на детей!
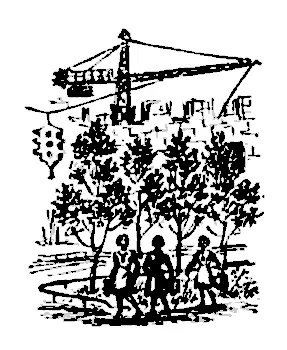
Повесть
Рис. В. Фирсовой

1
Оленька спрыгнула с высокого школьного крыльца, обогнала шумную ватагу ребят и помчалась через березовую рощу в поле. Размахивая туго набитой клеенчатой сумкой, прыгая через лужи, еще не просохшие после первого весеннего дождя, она бежала по извилистой тропинке и что-то весело напевала высоким, чистым голосом. Она всегда что-нибудь пела, — то веселое, то грустное, но часто даже грустная песня не могла потушить озорные огоньки в ее темных глазах.
В небе светило майское солнце, плыли редкие белые облака. Оленька миновала рощу, добежала до парников и, сорвав с головы белую вязаную шапочку, высоко подкинула ее над поблескивающими на солнце стеклянными рамами.
— Анна Ивановна, здрасте! Тетя Маруся, добрый день! А где моя бабушка? Бабушка Савельевна! Ага, вот ты где спряталась! — Она еще раз подкинула шапочку и бросилась к сидящей на парниковом срубе маленькой седой женщине.
— Легче, легче, внученька! Не разбей раму, не упади в котлован. Да постай ты, белка-непоседка!
Но Оленька уже на другом конце парника. Хорошо ли растет в торфяных горшочках рассада?
— И черной ножки нет, видишь, бабушка! А почему еще не вся высажена ранняя капуста? Ну разве так можно? Ведь совсем тепло! Ой, бабушка, бабушка! — Но почему бабушка молчит? Какая она грустная. Смотрит так, словно вот-вот заплачет!
— Бабушка, что с тобой? Ты не больна? Давай, я всё сделаю, а ты иди домой.
— И без тебя обойдется, — бабушка обняла Оленьку и повела ее с парника. — Ступай, пообедай, ведь с утра не ела…
— Хорошо, хорошо, — уступила Оленька. — А знаешь, бабушка, я приду домой поздно. Юннатовский кружок будет и спевка… И еще придется ноты переписывать… Ну разве можно, бабушка, нотами горячее молоко покрывать?
И не успела бабушка Савельевна оправдаться перед внучкой, — та уже скрылась в роще. Лишь изредка из-за кустов вдруг появлялась ее белая шапочка.
В Ладоге было известно, что Оленька не родная внучка Савельевны. Это знала и сама Оленька. Она помнила детский дом, в котором жила во время войны, помнила, как оттуда ее взяла к себе бабушка Савельевна. Но где девочка жила до детдома, никто сказать не мог. И может быть, вскоре забыли бы даже, где ее подобрали, не назови ее воспитательница детдома степнячкой. И это прозвище всё время напоминало, что девочка откуда-то из степи и что, только потеряв отца и мать, она могла оказаться далеко на севере, в обильной лесами и озерами Ладоге.
Читать дальше