* * *
Да, Федор Трофимович выбрал, назвал в душе это выбранное «смелым делом», но вот смелости-то и не хватало! На целине он был в хорошей компании, а сейчас надо идти одному — он даже Сюзанну Ивановну не мог в это посвящать... Все подготовлено, обдумано, и можно было в любой день, но хоть бы какой-нибудь локоть рядом, какой-нибудь подручный... А время не ждет — на Сюзанниной даче от безденежья все остановилось.
С этими-то мыслями и приехал сегодня Федор на дачу. Он отмахнулся от слез жены, от ее рассказа о приходившей к ней молодой Щегольковой («A-а! Надоело!»), и Надежду Львовну удивило лицо мужа: темное, неподвижное, с каким-то затаенным блеском глаз. Они молча взошли на террасу, молча прошли над подпольным узником — изможденным, притихшим Ужуховым. Молчал Федор и за ужином.
— Завтра плотники небось ограду придут чинить! — сказала сыну Марфа Васильевна.— Как подряжались, в пятницу.
— Пускай...
Это тоже было необычно — Федор всегда и с удовольствием вникал во все хозяйственные дела.
После ужина он долго бесшумно ходил по потемневшему саду. Огни спичек, когда он прикуривал, вспыхивали то там, то здесь, будто метались...
Наутро Федор Трофимович уехал, как всегда, в магазин. Однако Ужухов, припав к своему глазку, увидел в хозяине что-то необычное — и в походке, и в лице...
На следствии Ужухова спросили:
— Скажите, на следующий день, то есть в пятницу двадцать пятого августа, когда Пузыревский утром уезжал в магазин, не заметили ли вы каких-либо приготовлений?
— Ну, как полагается, собрали ему на стол. Так что он попивши-поевши поехал.
— Нет, не о том... Не брал ли Пузыревский с собой чего-нибудь в машину? Ну, мешки, свертки какие-нибудь?
— Не видел... Нет, налегке сел и тут же уехал.
— Ну хорошо... После его отъезда жена отправилась на станцию за покупками, и, следовательно, мать Пузыревского осталась на даче одна. Почему вы не воспользовались этим временем? Вы так его ждали.
— А плотники! Хоть они и в стороне ограду чинили, а могли услышать.
— Значит, днем двадцать пятого вы не потому не осуществили свое намерение, что отказались от него, а потому, что вам мешали его осуществить.
— Точно!.. Они чуть не до вечера тесали и стучали.
Да, плотники работали до четырех часов дня, и Ужухову некуда была деваться от стука их топоров. Стук держал его в подполье, словно сторож с колотушкой, отгоняя воров, ходил вокруг. Кроме того, стук будил, тревожил затихшую было зубную боль...
Вчера поздним вечером, следя за Пузыревским, который показывался на темных дорожках то в одном конце участка, то в другом, Ужухов вдруг почувствовал укол в правую щеку. Не обратил внимания, но ночью ударила настоящая боль.
Как всегда, ничего не помогало — ни вода, ни водка, взятая на зуб. Сдернул с кирпичей, которые опять, как и в прошлую ночь, лежали в изголовье, меховую шапку и прижался щекой к холодному, шершавому камню. Нет, проклятого и это не брало! Тогда нахлобучил на себя шапку, по-зимнему опустил наушники,— может быть, тепло его утихомирит. Мучительно хотелось разогнуться, встать во весь рост; так и казалось: встанешь, и боль как рукой снимет...
Ужухов ворочался, метался в темноте, боясь вызвать шум. Уже думалось: черт с ним со всем — пускай накрывают, хватают, лишь бы дали каких-нибудь капель! А уж перед рассветом и совсем невмоготу: ну просто вылезти, постучать в окно — хоть старухе в окно — помогите!..
И, как всегда, неизвестно почему, боль вдруг затихла. Да что там затихла — прошла! Бывает же такое счастье!.. На душе — паралик ее расшиби — парное молоко. Хочется вылезти из подполья, постучать старухе в окно: «Бабушка, прошло! Понимаешь, прошло!»
Заснул крепко — кирпичи уж не кирпичи, а будто подушка на подушке, а на той еще подушка... А вокруг солнечная полянка, вся в землянике,— хочешь, лежи, а хочешь, встань во весь рост... Да что там в рост — подпрыгивай, подскакивай, сколько влезет, головой о потолок, не бойся, не стукнешься... Наверху-то небо!.. Потом нежданно-негаданно прикатила на полянку Аграфена Агафоновна, и тут вдруг все по-хорошему — ни решеток на машине, ни черного цвета, а просто «Волга», на которой Пузыревский ездит. И сама тетечка не базарная, не матерщинная, а будто благородная дамочка, что на витринах стоят: субтильная, тонкорукая, глаза с синей поволокой... Только свой темный платок, чтоб ее не разгадали, тетечка на себя накинула. Но тут ветер платком заиграл и темной бахромой по лицу витринной дамочки провел... Мать честная! Теперь это не тетечка, а Пузыревских старуха — серые, обвисшие щеки и глаза-щелочки. «Ты что же, милай,— шипит старуха,— сперва душить меня собирался, а потом насчет зубов ко мне прибежал!» И в щелочках-глазах угольки зажглись. «Не болтай зря, дура! — кричит парень на земляничной полянке.— Я только для острастки хотел, чтоб деньги из дома вытрясти!» Но тут старуха вытащила из «Волги» доски и стала над парнем низкий навес сколачивать — доска за доской, доска за доской, пока все не сколотила, пока темно, как в подвале, не стало. Но и этого старухе мало — сверху курёй выпустила, и те стали «пышено» клевать, да так резво, громко, будто не по доскам, а по самому темечку клювами стукают...
Читать дальше
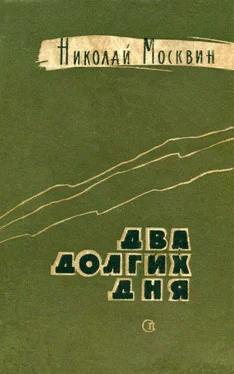






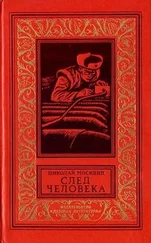
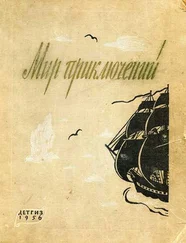
![Николай Москвин - Узелок на память [Фельетоны]](/books/400090/nikolaj-moskvin-uzelok-na-pamyat-feletony-thumb.webp)