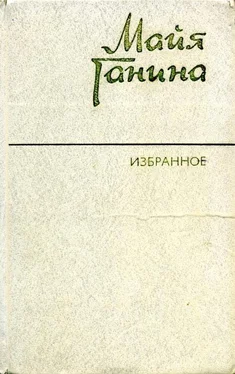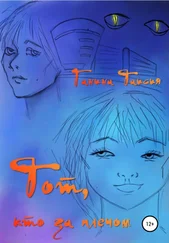В этом краю были свои порядки, свои обычаи. Они велись издавна и держались крепко. Золото, большие деньги, «боны», на которые в магазинах старатели задешево покупали необыкновенные вещи; пьянки, поножовщина, проститутки и нелепое правило, по которому, если ты утаил в шахте или даже украл золото, стоит добежать до скупки и только швырнуть в окно дорогой мешочек — ты вне опасности…
Теперь все изменилось. Наехал иной народ, и в шахтах не работают больше заключенные, в клубах каждый день другие картины, приезжают артисты… Неподалеку строится большая ГЭС, будет хватать электричества для новых драг, для всего здешнего золотого и слюдяного края. Пожалуй, от старого остался только марокас — «маленькая лошадка», японское, времен концессий название…
Женщина глядела на берега, размышляла, как все будет дальше.
А у молодого болела голова, не хотелось ни о чем думать, было скучно. Он выкурил две сигареты, последил, обернувшись назад, как стоят в рубке штурман и рулевой, глядят внимательными глазами на реку; лениво помечтал о том, что неплохо бы такую работенку: четыре часа повертел колесо — и гуляй до следующей вахты. Поднялся.
— Пойду, — сказал он женщине. — Может, где в карты играют. Делать-то чего: спать неохота…
— Ступай…
Она осталась сидеть, глядела, не видя, как река становится черной, как сползают по верхам сопок желтые холодеющие пятна. Когда совсем стемнело, она спустилась в трюм.
На их половине было весело. Между лавками стоял на попа чемодан, вокруг теснились с картами соседи. Механик с женой, едущие в отпуск; две девчонки из Киренского педучилища; продавщица, везущая ребятишек к матери на фруктовый сезон. И разбитная девица, лет двадцати семи, неизвестно куда и зачем едущая. Правда, девица говорила всем, что она учительница и едет к мужу, но народ в этих краях жил недоверчивый, бывалый. Рядом с девицей сидел молодой. Играли в «веришь — не веришь», громко кричали, хохотали, наперебой рассказывали смешное.
Женщина легла на свою полку, подложив под голову шаль и лодочкой слепленные ладони, подтянула колени, оправила сзади платье и снова задумалась. Недалеко где-то работала машина, в такт ей подергивалась скамья, от этого было уютно, будто при деле. Потом в иллюминаторе забелели огоньки неизвестного поселка, затопали по трапу ноги, машина стихла — и женщина напряглась, словно пережидая вынужденное безделье, не могла ничего обдумывать, только слушала, как молодой кричит: «Веришь?..» А девица горловым резким голосом отвечает: «Не верю!..» — «Ну, так тяни тогда!..» И все хохочут. Потом машина заработала опять, и женщина, успокоенно перевернувшись на другой бок, лицом к стене, снова начала обдумывать, как все устроить дальше, чтобы не ошибиться, чтобы все шло, как надо.
Она не тревожилась о том, где будет жить и работать. За двадцать долгих лет пребывания здесь ей пришлось переделать столько разной работы, тяжелой и легкой, грязной и чистой, что удивить чем-нибудь ее было трудно. Не беспокоилась она и о том, на что они станут жить. Правда, после здешних «вольных» денег и первоочередного снабжения жизнь на «материке» виделась ей бедной и трудной. Но у ней отложено было про запас кое-что, а потом, она умела работать…
Она обдумывала, как бы подольше задержать возле себя этого молодого мужика. Она лежала лицом к стене, и ей вспоминались разные парни и мужики, прошедшие через ее жизнь. Те мальчишки-несмышленыши, которые сходили по военному времени за парней. Обнимки с ними в умывальниках и в котельной во время ночных смен. Тогда еще у ней не столько была потребность любить, сколько желалось чужой любви, для женского самоутверждения, для того, чтобы понять, чего же она стоит. Потом охранник в лагере — первый ее мужчина. Это уже была пора долгая, длившаяся, кажется, целую жизнь, когда и она не любила и ее не любили. Приходило что-то тепленькое, как кружка сладкого чая, когда замерзнешь, и уходило. То ли было, то ли не было. Не жалелось, не помнилось.
А дальше несколько лет даже без этой кружки чаю. И вот — он.
Она лежала, отвернувшись к стене, слушала его дурашливые вскрики и представляла его лицо, его руки, кожу на его груди, гладкую возле сосков и в межреберье, редко заросшую рыжими волосками ниже ключиц. Слышала запах его кожи и его рта — смешанный запах табака и винного перегара, от этого запаха у ней начинала стучать в висках кровь и тяжелели ноги. Она прикрыла веки, чувствуя, как теплеют губы, и сжала щепотью пальцы, чтобы не ныли ладони от нерасходуемой, нетратимой ласковости.
Читать дальше