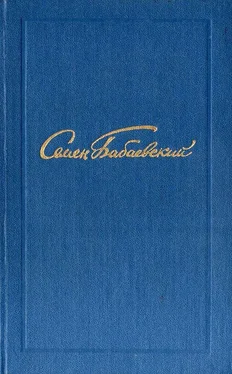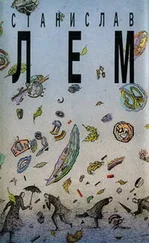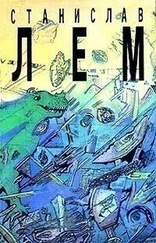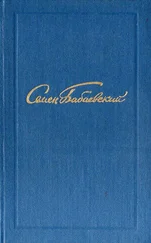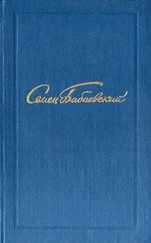— Евгений Николаевич, я рад видеть тебя в райкоме, — сказал Щедров. — Но давай оставим в покое и озимые, и отаву, и раскорчевку, и теплый дождь. Говори, зачем пришел? Выкладывай.
— Антон Иванович, ты прав, разговор об озимых и теплом дожде нам сейчас ни к чему. — Рогов задумался, и его худые щеки тронул мелкий тик. — С чего начать? Не знаю.
— Любое начало есть начало.
— Я долго не приходил к тебе, очень долго. Не мог. А сегодня решился… Больно, вот тут. — Рогов положил ладонь на грудь. — Вот теперь я знаю, что такое душевные муки. Хотя, видишь, я говорю спокойно. Но зачем я пришел? Вот вопрос!
— Нужна работа?
— Я работаю лесничим. Сутки отдежурю, а двое суток свободен. Так что есть время для раздумий… Зачем же я пришел?
— Может, нужна какая помощь?
— В том-то и штука, что ничего мне не нужно. Много я думал в эти дни о себе, слишком много. Думал и о том, как я жил, к чему стремился и так ли жил, как надо было. С кем дружил, кому подражал, у кого учился? Сам я себе судья и сам я себе адвокат.
— Говори поточнее и пояснее, — попросил Щедров.
— Извини, не могу, трудно мне… Все во мне перевернулось, перепуталось. Мало мы знаем о людях, очень мало. — Рогов долго сидел молча, с поникшей головой. — Вот, к примеру, Антону Ивановичу Щедрову, что ему известно обо мне? Ничего не известно.
— Сам расскажи о себе, вот я и буду знать.
— Мысль свою, главную, не могу выразить, нету у меня таких слов. Как рассказать о том, что не так давно я находился в этом кабинете, один, со своими мечтами… Это было еще тогда, когда, помнишь, я приехал в Степновск и мы встретились у Румянцева. — Рогов усмехнулся, поднял полные тоски глаза. — Смешно вспоминать! А ведь это было… Я хорошо помню твои слова: поднимись, Рогов, на том месте, где упал. Справедливый совет. А знаешь ли ты, почему я упал? Нет, никто об этом не знает! А ведь надо было не только подняться, выпрямиться — если бы ты знал, Антон Иванович, как это трудно! Но еще труднее — понять, осознать самому, где, на каком месте споткнулся и почему упал. Долго я искал и место и причину. И не находил. Самое трудное: кто повинен в том, что со мной случилось? Сам я или кто? Ты скажешь: потворствовал Логутенкову? Это не то! Скажешь: бюрократ, находился в кабинете, а секретарша говорила, что меня там нету? Нет, не то! Скажешь, зажирел Рогов, отвернулся от людей, зазнался, лишнее о себе думал? Тоже не то! И все ж таки я дознался, сам до всего дошел и скажу тебе. В последние пять-шесть лет самым страшным в моей жизни было то, что я не был самим собой. Понимаешь, не было Рогова! Вместо меня была тень одного человека — ты хорошо его знаешь. Я учился у него жить, работать, я подражал ему во всем, я завидовал ему, я хотел быть похожим на него, даже, смешно, однажды хотел было отрастить усы. Дурак! Его я росточек, и в этом причина моей беды… Разумом и сердцем понять это было не легко, а как же трудно мне начинать все заново, как трудно вернуть себя к тому, что было во мне в юности… Я переболел душой, перестрадал и перемучился, и теперь мне уже легче, и я, видишь, могу говорить.
Перед вечером Щедров пришел домой в приподнятом настроении. В сенцах снял мокрый плащ, вошел в комнату и, не в силах сдержать свои радостные чувства, обнял тетю Анюту и поцеловал ее морщинистую щеку.
— Да ты что это, Антон, взялся меня обнимать да целовать? — удивилась тетя Анюта, разведя руками. — Никогда такого с тобой не было. Отчего бы вдруг?
— Анна Егоровна, от радости!
— Жена вторую неделю не подает весточки, а он радуется.
— Ульяша звонит по субботам, а сегодня пятница. Сегодня я сам ей позвоню. — Улыбка не сходила с обрадованного лица Щедрова. — Эх, Анна Егоровна, если бы ты знала, что у меня на сердце! Хоть песню пой!
— Да я вижу, весь сияешь. Отчего бы? Никак не могу уразуметь. Что с тобой стряслось? Или опять ездил любоваться озимыми?
— Анна Егоровна, что озимые! Их поливает дождь, они растут, зеленеют… Вернулся! Понимаешь, вернулся!
— Кто таков?
— Человек! Сам встал, поднатужился и пошел!
— Антоша, попил бы чайку, — с удивлением глядя на Щедрова, сочувственно сказала тетя Анюта. — Садись к столу, заварка свежая. Есть у меня ватрушки.
Щедров пил чай, в потемневшее окно стучали крупные капли, по стеклу текла вода. К ночи дождь усилился.
Москва — Жаворонки
1966–1973