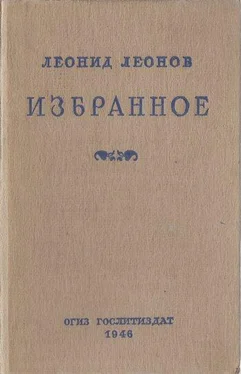Люди эти сидят рядом со своим партнёром по злодействам, изменником родины и исполнителем гестаповских казней Булановым. Этот парень, в чёрном пиджаке и с мордой каторжника, особо удачно расправлялся с детьми — шестьдесят жертв лежат на его чугунной совести. В тёмных, без всякого выражения и много повидавших его глазах, под тяжёлыми палаческими бровями не отразилось ничего; он сидит, втянув голову в плечи, точно заблаговременно пряча голову от петли. Этот работает там, где ему платят. Этот — подлинная чёрная изнанка трёх предыдущих в голубых немецких мундирах.
Все эти люди разнятся друг от друга не больше, чем пальцы на руке, на подлой руке, которой Гитлер давил горло Украины. Их пока немного здесь, мелкие «фюреры» с разными ограничительными приставками. Но будет день, когда и разбойники покрупнее воссядут на той же скамье. Не минует эта судьба и самого главного «фюрера».
Харьков, 17 декабря 1943 г.
Моё литературное поколение обладало счастьем видеть, слушать и непосредственно учиться у зачинателя — вот уже не очень молодой советской литературы, Максима Горького. Почтительно и робко мы жали эту руку, ещё сохранявшую тепло толстовского и чеховского рукопожатия. Люди до конца дней несут на себе отпечаток своих ближайших и старших современников. В голосе Горького слышалась нам суровая интонация толстовской речи, а в его взоре являлся порой проникновенный, неподкупный и достигающий мельчайшей клеточки души, чеховский юморок.
В могучей русской тройке, пересекшей рубеж нашего столетия, Толстой был как бы коренником. Нам, нынешним, он представляется вовсе недоступным для, скажем условно, творческого прикосновения. Он даже и не снился нам никогда, молодым литераторам, хотя бы как Горький, который и сейчас приходит к нам иногда, в беспокойную ночь художника, поддержать строгим отеческим наставлением. Мне думается также, что ещё не начало остывать и вещественное, телесное тепло Антона Чехова. В сущности, никто из нас не удивился бы, если бы они вошли сейчас сюда, друзья, и сели за столом президиума, перешучиваясь по поводу торжественного блеска этих огней и многолюдности такого собрания в честь одного из них. Да будет мне позволено признаться, я почти слышу, как сказал бы Алексей Максимович спутнику своему, замолкшему от смущения, мельком и своеобычным жестом касаясь усов:
— Ишь, что затеяли, черти драповые! Теперь ваша очередь, Антон Павлович. Терпите, сами виноваты… Все мы проходим через это дело.
Да, это он виноват в том, что, отбросив большие очередные дела, вы собрались здесь, гордые могуществом и всемирной славой нашего русского слова, вы — объединённые принадлежностью к такой красивой и грозной семье советских наций, вы — предсказанные ими в темнейшую ночь царской реакции: и те, которые пришли сюда из университетов, лабораторий и кузниц победы, и те, которые, незримо присутствуя здесь, громово стучатся сейчас в железобетонную берлогу зверя.
Приподнятость моего слова происходит от моего волнения — говорить о своих учителях в час кровопролитной битвы, самой священной битвы в истории России и человеческого прогресса.
Тогдашняя Россия не уберегла для нас Чехова. Он умер рано, мы даже не умели оплакать эту утрату соразмерно её значению. Мы в лошадки играли в тот день, когда перестало биться сердце Антона Чехова. На радость нам живут и творят с неслабнущей силой его друзья и близкие, к кому мы обращаем сегодня свою благодарную сыновнюю нежность. Но сами мы не испытали равного счастья непосредственного, духовного и физического прикосновенья к Антону Павловичу. Мой беглый очерк может не совпасть с действительным обликом Чехова, какой сохранился в памяти его современников. Я не исследователь литературы, а лишь старательный читатель, создающий собственное представление о великой личности в пределах доступного ему материала.
Волна, которую в мировой литературе поднял Чехов, не улеглась доныне. Было бы излишне приводить здесь цитаты из Чехова и цитаты о Чехове. Его и о нём, жившем — кажется — столько веков назад, по справедливости знают лучше и больше в нашей стране, чем по поводу любого из нынешних живых литераторов. Любовь к писателю и есть совершенное знание его искусства. Конечно, она возрастёт ещё в большей степени, по мере того, как познание самих себя и своего недавнего прошлого будет становиться потребностью всё более широких народных масс. Сколько нераскопанных кладов таится ещё в нашей земле и действительности!.. Для нынешнего читателя Чехов давно перестал быть только пессимистом или певцом сумерек и хмурых людей, как именовала его когда-то часть тогдашней критики. Она упрекала его в бесстрастии, требовала от автора точной общественной формулы, почти тезиса или, во всяком случае, социального пароля… и, нам понятно, иначе и быть не могло в ту пору накопленья сил… но не заместимо никакими иными категориями целомудрие художника, и я затрудняюсь предсказать судьбу прекрасной прозрачной чеховской прозы, если бы этот взыскательный автор попытался в своей писательской практике внять предъявленным ему требованиям.
Читать дальше