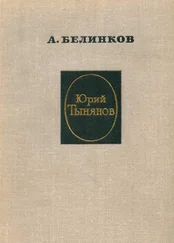В следующий раз я увидел его уже в гробу. Тынянов умер в Москве, в декабре 1943 года, и хоронили его на Ваганьковском кладбище. Снег белел между черных прутьев кустов, уже начинались сумерки. Тынянов в гробу лежал маленький, как ребенок; неправдоподобно маленькими казались его ступни в полосатых носках. Фадеев в длинной солдатской шинели сказал надгробное слово. Шкловский плакал навзрыд и размазывал слезы по лицу.
Тынянов умер в страшный военный год, когда столько умирало вокруг. Я только что приехал в Москву из осажденного Ленинграда, где миллион людей умер у меня на глазах за одну зиму. Но к смерти привыкнуть нельзя, она всегда поражающе нова. И смерть Тынянова поразила меня глубоко. Умер русский летописец, певец самых сокровенных, самых обольстительных и болезненных тайн русской истории. А русская история продолжалась - полная неслыханных бедствий, и величавых мечтаний, и ни с чем не сравнимых побед.
1964
Леонид Рахманов
СТАРЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СНИМОК
...В легком плетеном кресле Тынянов сидит на веранде Дома творчества писателей в Пушкине. За спиной его открыто окно, на веранде и в саду много света, хотя уже скоро сентябрь, - предвоенная осень 1940 года...
Это одна из последних фотографий Юрия Николаевича; смотря на нее, невольно думаешь: как много с тех пор прошло лет - и как мало лет мы встречались! Первая встреча была заочной, читательской и происходила в библиотеке. Библиотеки этой давно не существует. Она называлась "Универсальной" и помещалась на площади Ломоносова у Чернышева моста. Именно там я впервые читал Ахматову, Мандельштама и - Юрия Тынянова. Это был 1927 или 1928 год, в "Звезде" печатался роман "Смерть Вазир-Мухтара", по одной главе в номере. Как ни странно, тогда я еще не читал "Кюхли" сразу начал с "Вазир-Мухтара" и сразу был потрясен вступлением к этой книге, тремя страницами напряженной лирической, философской прозы.
- Всегда в крови бродит время... - твердил я вслух, как стихи, возвращаясь по безлюдной Фонтанке. - Было в двадцатых годах винное брожение - Пушкин. Грибоедов был уксусным брожением...
Не знаю, понимал ли я тогда все, как следует, но эти строки меня околдовали:
"Человек небольшого роста, желтый и чопорный, занимает мое воображение. Он лежит неподвижно, глаза его блестят со сна. Он протянул руку за очками к столику. Он не думает, не говорит. Еще ничего не решено".
- Еще ничего не решено! - повторяю я. - Ничего не решено...
Почему-то нерешенность меня особенно волновала. Наверное, потому, что я сам еще ничего не решил.
Это была моя первая встреча с Тыняновым - встреча заочная. В жизни я встретился с ним только через четыре года, когда вышли в свет полторы моих книжки. Полторы, ибо одна состояла из повестей двух авторов - Геннадия Гора и моей. Никому из старших писателей я не дарил этих книжек - то ли стеснялся, то ли считал нахальством, не хотел навязываться, но вот удивительно: больше всего я стеснялся, даже боялся Юрия Тынянова и вдруг оказался перед домом, где он в те годы жил (не помню, у кого узнал адрес, тогда не было адресных справочников Союза писателей), поднялся по лестнице, позвонил...
Господи, как глупо я себя вел! Юрий Николаевич принял мое вторжение как вполне естественное, уговаривал меня сесть, побеседовать... да, побеседовать, так и сказал, он отлично видел мое смущение. Но я не сел. Беседа не состоялась. Самое глупое, что я приготовил для нее историко-литературный вопрос.
"Почему в гржебинском издании Баратынского (1922 год) в комментариях к стихотворению "Надпись" сказано: "По преданию, в этом стихотворении изображен портрет А. С. Грибоедова (с которым, по-видимому, Баратынский не был знаком)"? Неужели только по преданию? А ваш эпиграф к роману, Юрий Николаевич:
Взгляни на лик холодный сей, Взгляни: в нем жизни нет; Но как на нем былых страстей Еще заметен след!
Как тесно сливаются эти строки с вашим романом, - не может быть, чтобы Баратынский писал их не о Грибоедове! Вы же еще до романа цитировали это стихотворение в статье "Промежуток" и писали: "На нас этот стих падает, как сгусток... и нужна работа археологов, чтобы в сгустке обнаружить когда-то бывшее движение".
Так ярый ток, оледенев, Над бездною висит, Утратя прежний грозный рев, Храня движенья вид.
Правда, вы там не говорите, что эти строчки о Грибоедове. Может, потому и не говорите, что это общеизвестно. Но почему в таком случае в издании Гржебина?.."
Словом, предмет для беседы был. И тонкий, как мне казалось, предмет. Но я вместо этого торопливо надписал свои тощие книжки, отдал, попрощался и почти убежал. Существует выражение: лестничный ум. Так и я, спускаясь по лестнице, вел с Тыняновым запоздалый разговор. И хорошо, что воображаемый, - по крайней мере, обошлось без претензий...
Читать дальше