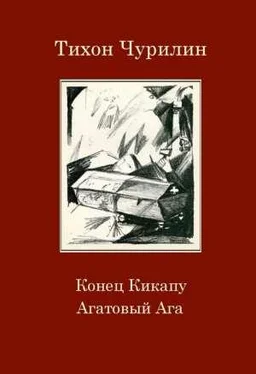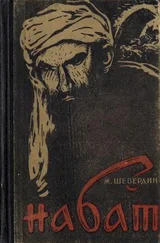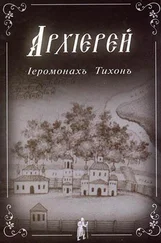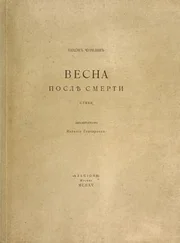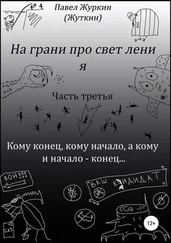Таз – солнце! Бритва – рока молния! Темница – только несколько темных десятков годов! Ты готов; жди. А я, бывое диво – я ныне новая Сольвейг; я возле, я очно – очнешься, я тут, девочка двенадцати лет.
Я спасу. Спасу твоему тень моя – меч тебе – жизнь воскресению твоему, Весне после смерти.
И объимешь ты стройное тело мое тогда – да, а ныне я возле, ллллии, эллля, ляяяааа .
КОНЕЦ
Бахчисарай. Июль – Сентябрь 1916.
Прямо пред дворцом держит кущу свою Мустафа усладительный. Чудоуслада – черный кофе его; куща – кромешна: словно обожжена, обуглена в углах; ладный балкон почернел тоже, темный и тихий – но томно и нежно нежиться нежитям жадным до тутошных утех в зное золотом полдня, в урне уроннопрекрасной позднего вечера, в лике лунной зеленозолотобледной неживой ночи.
Прямо перед дворцом и пред кущей – в средине ближе к дворцу, держится диво – словно странный агатовый сфинкс. Узкия уши торчком, черная низкая шерсть – и в глазах залегла мра-а-ачная гордая ночь, впрочем и ко всей той агатовой груде видная вовсе не тайно – а явно, ярчайше, несмотря на ея тронную тьму – видная всем.
Лежит и лежит, льнет льдом своим черным и гордым к земле – глаза же в кущу упорно устремлены – ночь посылают в полдне, в вечере, в лунной тихоликующей ночи.
Прямо перед кущей усладительной Мустафы, как слышали Вы, – дворец, древних Ханов Хаосских ныне, также Куща и Сень, руинная днесь в наших днях. Ныне пингвины истововозлюбили бывать там, мести мраморнокаменную пыль перьями хвостов и тел, нести быль пингвинную свою в сень и тень редких Руин. И площадь прежняя пустая, невольников торг – ныне сад, где тени и призраки ив, где плесканье фонтанов – тихоневнятная сага, серебристый сказ про рай и эдем древне дивных дней.
Прямо против мечети, Меча Божьей веры в единого, устремленной минаретом вверх, – скамья в саду светится белым длинным телом своим. Светится в солнце – жарко, в полдень и день; марко, марой зеленой отливает белизну свою в лике луны, вечер и ночь.
И еще агатом обрадуется глаз: на скамье той в теневой стороне стены Меча, – Божьей Мечети – яснооблеченная в солнце, тихая, яркотемная, видна дева. Древняя риза – одежда: черная; бледно-агатовые глаза – огромны: златоагат; и бледный лик испепелён солнцем: от него то, окрываясь тенью, сторонится странная дева – Нигродеа.
Прямо идя по единой большой дороге, единой улице большой Града Садов, свернется сам путно путь белокаменный влево. Вверх, вверх до вершинки гористой, каменными пупками покрытой предивно; там направо, вперёд – и стоп: дверь двуполовинная краснобурая есть, ждет. Вот.
Когда со звонкоголосым звоном звукнет ключ, обернувшись в щели своей раз – отворится дверь – и вот дворик облитый солнцем – днем, улитый луной – в ночь. Низкий сам, еще ниже ступени – лесенка лезет еще ниже – и вверх ведет, на крышу, коронно, – другая – и так и не знаешь куда потечет путь: вверх ли, вниз…
Влево белой прямоугольной палаткой ласковый явится взору домик. Дверь – белая, прямая, простая; в окне белорамном радостно завиднеются беловесёлыя стены, веселая весенняя снеговая пустота. Это – днем – утром, в полдень и дальше – в зрелый наставший день.
Вечер – иное: зимнеснежный, сияет в зеленозолотобледной луне, мертвый дом. Снежнобелыя стены пустыя впустят в окно взор – и прильнет он, навеки погрузившись в снега – пустота и хлад, мертвость, тишь – и тени еле дрожат видейно, как белыя мыши в мертвом море луны.
В пустоте белой стен, во весенневёсёлом сияньи денном снегов, в ночном неживом лунном свету, снегах странных светлейшого полнолуния – ясно и ярко чернеет третий агат, черный бархат женской единственной шубки.
Ни диванов по стенам, упругих, цветных, ценнотюркских; ни персидских прекрасностаринных платков; ни вещей – только черный агат гаснет в дивносредней светотени сумерок – утра и ночи; только черная ясно и ярко чеканит чернь свою в светлопылающем дне, в светлобледных снегах лунной ночи, – единственно – узкая шубка. Три трона, агатовых строго: собака, дева и шубка. Три роком поставленных трона-агата – Агату, черноогненному где то Аге.
Ах, Ага, агатобледный еще, – говорят о тебе понемногу везде: в куще Мустафы Усладительного, в придворном саду, на базаре и в банях, Ханских когда то…. В короннокараимской (теперь бедной) белой семье возрастала велико средь сестер Эстер. Черной богиней была средь семьи – мила матери, не по росту сестрицам – велика и строга –; вся в черном, чуть в белом (глава, иногда). И в главе главным кладом – чистым чудом, дивом, – древние были глаза. Древнезлатоагат, бледный. Не летний, но ленный прескорбным пленением – ожиданием ада.
Читать дальше