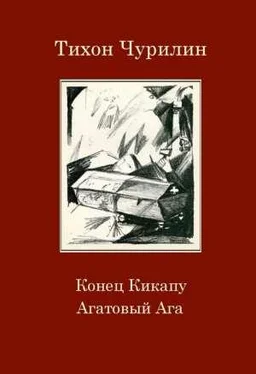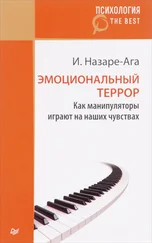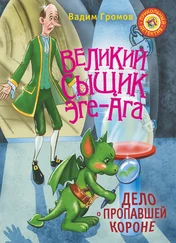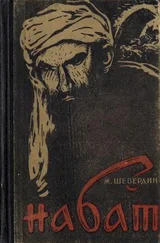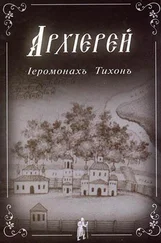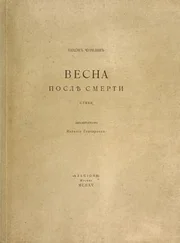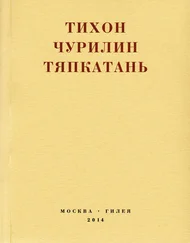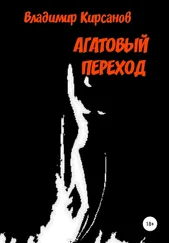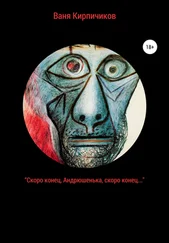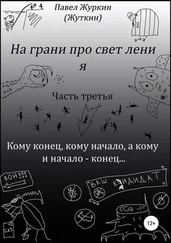Новая Сольвейг. Я спасу. Спасу твоему тень моя – меч тебе – жизнь воскресению твоему, Весне после смерти – Подобно Сольвейг в ибсеновской драме (см. прим. к с. 13) и Пенелопе, Ронка символизирует всепрощение и верность; она терпеливо ждет возвращения (воскресения) возлюбленного. Все покровы сняты, открывается высшее предназначение божественной Матери – защита умершего от повторения жизни-смерти «во гробе». Триединая Мать-Дева-Дитя – залог спасения, освобождения от тягостного плена низшего мира с круговоротом жизни и смерти, лишенным искупления; только ее любовь становится залогом истинного воскресения.
Агатовый Ага
Впервые в составе публикации: Тихон Чурилин. Стихи и проза 1912–1920 [Публ., вступ. статья и прим. А. Мирзаева] // Другое полушарие: Журнал литературного и художественного авангарда. 2009. № 9. С. 60–73. Печатается по этой публикации. Фрагмент из повести с примечаниями автора, приведенными ниже, был опубликован в альманахе Помощь (Симферополь, 1922) под названием «Агатовый Ага (Отрывок о чале)».
В сравнении с «Концом Кикапу», который можно назвать повестью a clef или даже s ans clef (ибо без биографического «ключа» смысл ее можно уяснить только в самых общих чертах), «Агатовый Ага»- прозрачная этнографическая зарисовка, включающая некоторые фольклорные элементы. В повести царит чувство возвращения к жизни, выраженное в образе татарского оркестра – чала, изображенного виртуозной и экстатической звукописью.
«Если в „Конце Кикапу“ „оркестр“ является только эмблемой экзотического (тюркского) мира и почти не участвует в действии, то в „Агатовом Ага“ его звуки символизируют „выздоровление“ и освобождение героя от смерти, что имеет отчетливый автобиографический подтекст и, вероятно, свидетельствует о преодолении в эти годы последствий больничного потрясения» – замечает Н. Яковлева (Встречи: 431). Интерес к тюркско-татарской культуре и обычаям Чурилин разделяет в это время с женой: в макете каталога выставки Б. Корвин-Каменской (см. с 56) значатся такие акварели 1917–1918 гг., как «Татарки», «Чал», «Бахчисарай».
Однако повесть не сводится к экзотическим описаниям. Знатный иностранец, Ага – в почетном титуле ясно прочитывается маг – скупает волшебные черные камни, и шубку, собаку, девушку, уподобляемую «Черной богине», затягивает смертный белый иней. Их кровь «прибывает во кров», они попадают «во власть господина, черноогненного где то Аги». В этой сказке-аллегории присутствуют такие постоянные у поэта мотивы, как «чернота» и жертвенность, а задействовано в ней не что иное, как черная, белая и красная стадии алхимического процесса: nigredo (почернение) , albedo (побеление) и rubedo (покраснение). Зловещее делание, совершаемое над миром, разрешается исчезновением морока и счастливым возвращением крови в свое лоно; жертва принесена, и заветный философский камень мир обретает в ликующем экстазе оркестра.
К повести тесно примыкают два стихотворения 1917 г. – «Печальный чал» (напечатанное в альманахе «Помощь», 1922) и «Честный чал». Приводим их по публикации Стих. 2002:
Печальный чал
В холоде, а голоде, в полночь и в полдень
Печальный чал – В комнате полой
Стынет свеча.
Болен хозяин, жены и дети.
Стены изрыты, в раны одеты.
Печь полстолетья была горяча,
Ныне остыла – печальный чал!!
Страшно, полярно сияет свеча.
Чал, да части же!! Гости, грызите
Кости, в баранине раны сосите!
Полно, печаль, в сени изыди!
Пчелы печали – в зимнее сито,
В мерзлый снег, на мокрый двор.
О, чал, рычи же, греми и визжи, ори весь хор!!
Сияй, свеча! –
Печальный, печальный, последний в полдень
и в полночь чал…
30/1 – XII –1917. Бахчисарай
Честный чал
Брониславе
Честный чал! – разноцветно уютное блюдо,
Ярки пряники, брынза брезжит звездой,
Венны вина, бузы беломутной и лютой
Едок чад и сердце – неверный ездок:
Цок, цок, цок.
– Ток.
И сушевом душным душит табак
И кружевом круг черный гостей.
Им нет новостей –
Пей да пей сквозь трешницу рвану!
Из чаловой чаши с рыданьем в нирвану
Ахну – стану
Беем и ханом, до верху пьяным!
Сентябрь 1917. Бахчисарай
…агатовый сфинкс – С первых строк в повесть вводится тема агата – камня, которому издавна и по сей день приписываются магические качества. Как считалось, агат обладал целебными свойствами, защищал от опасностей, помогал в борьбе со стихиями, способствовал успеху в любовных делах и награждал носителя камня храбрым сердцем. Черный агат, иногда называемый сегодня «магическим», защищал от злых сил и т. д. О легендарных свойствах агата см. также Kunz 1913: 51–54.
Читать дальше