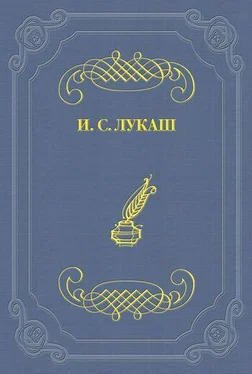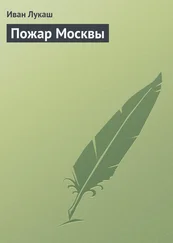После вечернего чая, около одиннадцати часов, когда мать стлала постель в кабинете, отец любил слушать ее разговоры о домашнем, как будто в ее простых словах могла быть отгадка того, что его тяготило.
В темном платье, не менявшемся годами, но все новом и ладном на ее худом теле, мать сидела на кожаном диване.
Из года в год повторялись те же слова, что надобно Паше новую шинель, вырос из старой, Ольге к Рождеству туфельки, мать называла их, как простые петербургские люди, баретками, что Алене пять рублей недоплачено, Вегенерша, говорят, за квартиру прибавит, в мелочной лавке много забрано, Пашка клопов, как будто, занес, надобно выводить скипидаром.
Отцу иногда казалось, что вот-вот она скажет настоящее, необъяснимое, но дрова, кухня, лавочники, картофель, провизия – все было не то.
А мать, позевывая, прикрывая рот продолговатой и красивой рукой, рассказывала о соседях. К студенту, который живет у Вегенерши, бегает одна, в горжеточке, модистка. Мать жалела ее, погибнет.
– Полно тебе, нашла кого жалеть, дур этаких.
Мать умолкала покорно. На его кожаном диване она уже отдохнула немного от вечной битвы, и ей было все равно. Она никогда с ним не спорила.
Отец знал, что сейчас она перекрестит его мелким крестиком, скажет: «Ну, батя, спи», и уйдет.
На диване сидела худенькая стареющая мать, какую он называл раньше Катюшей. Покорное и скромное вдовство сквозило в ней, вечное вдовство, проступающее к пятидесяти годам в каждой женщине, много тревожившейся и работавшей.
На худом лице матери проступал вечер. Ее волосы, зачесанные за уши, поседели на висках, и продолговатые руки, о которых он когда-то говорил: «Таких ручек, как у моей Катюши, ни у кого нет на свете», стали теперь жесткими от стирки, в продольных, темных морщинках, как у пожилых прачек.
От ее рук и от того, как она сидит, покорно позевывая, ему было еще приятнее, что их жизнь прошла.
– Ты бы, мать, себе платье, что ли, новое сшила, – говорил он, едва скрывая за обычной грубостью внезапную и виноватую нежность.
Это так удивляло ее, что она тихо смеялась, легонько хлопала в ладоши:
– Платье? Да что ты, отец, с ума спятил, что ли?! Или мне по театрам ходить?!
– А хотя бы в театры. Ну да ладно, как хочешь.
Много позже от всего детства и отцовского дома осталось у Пашки одно воспоминание, казавшееся ему необыкновенно значительным.
Это было воспоминание об осеннем вечере, в субботу.
В доме был особенно мирный час. В столовой горела лампа под желтым абажуром, от нее покоился на столе тихий круг света. Все двери из комнаты в комнату были отворены. В гостиной полутемно.
Брат Николай в серой тужурке лежал в гостиной на оттоманке, руки – под головой. Лицо у него было хорошим, нежным. Он слушал. За пианино Ольга пела романс о вечерней звезде, которая взошла и сияет. Голос у сестры был приятный, слегка глуховатый.
Отец совершенно тихо ходил по гостиной в своих сапожках, заложивши руки за спину. Пашке казалось, что самое значительное и хорошее не в том, что поет Ольга, он и не слышал слов, а в том, как бесшумной тенью, то попадая в полосу света, то исчезая, ходит отец.
Сам Пашка сидел в третьей комнате, материнской, дверь из зальцы была открыта.
Он сидел в потемках на узкой и плоской постели матери, за темной занавеской, куда спасался не раз от отцовских бурь из-за двоек в гимназическом дневнике. У матери после всенощной светилась за синим стеклышком лампада.
Он, пригретый под материнским платком, слушал пение и звон пианино.
Пашка думал, что таких вечеров прежде было как-то больше. Тогда мать с отцом ездили в Гостиный двор, за Неву, привозили целые груды пакетов, разные вкусные штуки, от матери, румяной, веселой, пахло морозом, а в прихожей, где было натоптано снегом, отец казался огромным, дымным, смеялся, и все его целовали. Раньше отец играл в гостиной на гитаре, и вспоминалось все это Пашке, как сон. Странно, что о том же думала, сидя с ним рядом, мать.
На дворе ходила мокрая вьюга, от ветра чуть дрожали темные окна, в печных вьюшках проносился свист. От непогоды за окнами особенно недвижным казался круг желтоватого света под лампой, угол шкафа, громадный, уходящий во тьму, поблескивающая изразцовая печь, ножки комода. Все вещи жилья, огромные, добрые, несдвигаемые, точно были замершими кусками вечности.
Нянька Алена вошла в столовую, как в церковь, бесшумная в своих катанках. Теперь Пашка услышал, как отец, баском, очень осторожно, вторит Ольге. Все было так необыкновенно хорошо, что Пашка повозился и шепнул матери:
Читать дальше