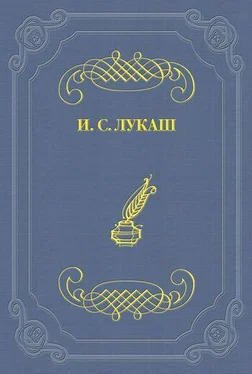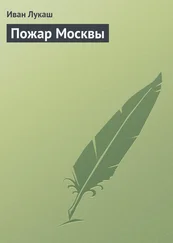1 ...7 8 9 11 12 13 ...18 Петр Семенович со страхом подумал, что мальчик обманывает его, лжет (именно такое книжное слово «лжет» пришло на ум), бегает с уличными, может быть, уже ворует, что его худобенький Пашка, сын, пропадает, пропал, уже хулиган, воришка. Отец растерянно и виновато вытер платком лысый лоб.
– Так-то ты, Пашка, отца-мать огорчаешь…
Пашка головой кинулся ему в жилет. Отец был довольно тучен, жилет был широк, тепел, от него пахло так же, как от коврового дивана в гостиной, немного пачулями. Пашка рыдал без слез, стараясь охватить руками тучную спину отца, охватить не мог, царапал руки о хлястик жилета и бормотал глухой скороговоркой:
– Не буду, папочка, никогда, прости, не буду, никогда, не буду…
– Ладно, пусти. Реветь всякий умеет. Да пусти, тебе говорят. Ступай к матери. Это она тебя избаловала.
Обвинениями матери кончались все семейные сцены из-за детей у Маркушиных.
Пашку засадили за книги. Месяца два Николай, кусая ногти, мог за уроками делать с Пашкой все, что хочет. Потом Пашку снова стали пускать на задний двор.
У Маркушиных забыли о скандале. Один отец, когда Пашка прижимался лицом к его жилету и торопливо желал доброго утра, еще вспоминал с жалостью и стыдом, как бил своего худобенького по щекам. Быстро и небрежно, как мать, отец проводил теплой рукой по лицу мальчика:
– Ну, поди, безалабера, поди.
И Пашка уже мчался вниз по перилам лестницы, сидя боком, как амазонка.
К вечеру летнего дня задний двор был полон детских голосов. Подростки играли в лапту. Гудел мяч. Воробьи, вероятно, слушая голоса детей, щебетали дружно и шумно, проносясь вереницами над сараем.
Люди в доме кончали вечером свои самые обиходные дела, шили, читали, стирали, ставили самовары для вечернего чая, мыли в чанах детей, и все звуки дома, звонкие детские голоса, вереницы щебечущих воробьев, красноватое солнце на стене заднего двора – все было как бы одной простой и общей игрой, утихающей для того, чтобы начаться с новой зарей.
Отец был подавлен заботами, дороговизной и, больше всего, наступающей старостью.
Старость он почувствовал внезапно, в июле, когда семья была в деревне под Лугой, куда ездили на дачу вместе с семьей штабс-капитана Сафонова. Маркушин недели две до отпуска оставался один в городе. Летом в квартире было пусто и звучно, все в тонком налете пыли. Кресла, прикрытые белой бумагой, напоминали чем-то музей.
В ясный летний день Маркушин шел по набережной. Шаги звонко ударяли о гранит. Он подумал, что его ждут к именинам в деревне и что ему стукнуло пятьдесят семь. «Ничего не возвращается на свете», – подумал он. Ему уже не избавиться от одышки, ни оттого, что тускло тянет под ложечкой, не переменить грузного тела, белого живота, на котором не сходятся штаны, цвета глаз, двойного подбородка, затылка со складкой. Все это, наваленное на него, заплыло, как заводь, и держит в плену. Он пленник и будет влачить себя до конца, как в цепях. Он так и думал: пленник, цепи, влачить.
До конца останется и его кисловато-грустный запах, который был ему неприятен: вероятно, это был запах медных форменных пуговиц сюртука, окислившихся за многие годы, когда сюртук двигался на нем в сенатское присутствие и обратно.
На нем был еще жилет, крахмальная манишка, белье, какое он не очень любил менять, и сапоги с коротенькими рыжеватыми голенищами некрашеной кожи, припрятанные под штаны.
Удивительнее всего, что, например, подтяжки или сапоги, и запонки, дешевые, с синими камешками, вся его пустая оболочка, в виде просторного темного сюртука и головного убора с потертой чиновничьей кокардой и пропотевшей на донышке кожей, могут остаться после него нетронутыми лет еще сто, двести, а его уже не будет совершенно, он весь исчезнет, и никто не узнает, не полюбопытствует, кто такой был коллежский советник Петр Семенович Маркушин.
Никто на свете: ни мать, как он звал жену, ни дети, старший Николай, ко всему равнодушный, на кого он так надеялся и так боялся ошибиться в надеждах, ни Ольга, о которой он обиженно думал, что она пустельга, хоть шаром покати, ни младший Пашка, тревоживший его, ни те, кто ходил, курил и говорил кругом него в департаменте, ни прохожие, ни все люди на свете и, главное, он сам – так и не узнает, кто же он такой был.
Раньше он что-то понимал, а теперь все стало только страшить его, тяготить. Все труднее с детьми, все больше расходов, будто меркнет все, как перед ночью, и вот ходит его внешняя оболочка, застегнутая в черный сюртук, никому не нужная, непонятная, хмурый незнакомец для всех и для себя.
Читать дальше