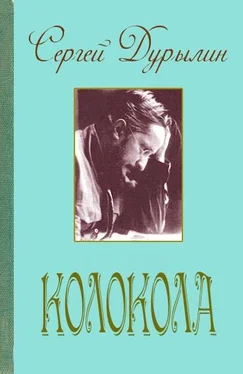— Да у нас на дворе звонят, говорят тебе. Вот чепуха.
Коростелев встал и прислушался.
Ударяли в небольшой колокол, мягко, неуверенно, пробующе; где-то совсем близко возникал звук и прятался, не желая выходить наружу. Но звук был музыкален и чист.
— Звонят, — развел руками Уткин.
— Это у нас в сарае, Петр Иваныч, сходи посмотри, какой идиот там звонит, и приведи сюда. Вот они, таинственные звоны, которым верит дурьё.
Уткин пошел и вернулся с аптекарем Хлопчиком. Хлопчик, весь дрожа, маленький, черненький, в кожаной, порыжевшей куртчонке, запнулся в дверях — и ни с места. Нижняя губа у него дергалась, — и очень смешно дрыгало на веревочке роговое пенснэ.
Уткин шутовски поклонился, как простаки в оперетке, и представил Хлопчика Коростелеву:
— Вот-с, рекомендую, товарищ Коростелев, артиста на колоколах, провизора фармации, Исаака Абрамовича Хлопчика. Усладитель звоном.
— Какого вы черта, — набросился на него Коростелев, — звоните? Где ваш пропуск на двор Советов? Нет? Как же вы смели туда зайти? Кто вас пустил?
— Я… извиняюсь… но я, под забор…
— Зачем? Что вам понадобилось у нас на дворе?
Хлопчик попробовал насадить пенснэ на переносицу, но оно тотчас спрыгнуло.
— Я… извиняюсь, но я звонил…
— Звонили? Почему? Что у нас, колокольня, что ли? И хорош — вы звонарь! Посмотрели бы на себя! Вы — еврей: что вам до звона: в попы что ль репетируете? Так не примут!
— Я извиняюсь, но я не хочу быть поп… — Хлопчик вскинул на Коростелева испуганные, масляные глаза. — Извиняюсь, но колокола — это же музыка…
— Поповская музыка, а вы еврей, на кой вам она прах?
— Извиняюсь, но это же музыка. Я не мог никогда иметь этот музыкальный инструмент. Я хотел играть, я же имею музыкальные способности, и я хотел играть на колоколах свою музыку. Колокола — это же почти оркестр. Я извиняюсь, мне не давали никогда играть на этом музыкальном инструменте. Я же просил… Товарищ Уткин, не может же не знать.
— Подтверждаю, — кивнул головой Уткин. — Товарищу фармацевту хотелось позвонить на колокольне, я за него просил и получил от ворот поворот.
— Ну?
— И теперь… Я приветствую революцию… И теперь, извиняюсь, когда инструмент не на колокольне, — быстро подхватил уткинские слова Хлопчик, — я сказал себе: «А почему бы тебе, Хлопчик, не поиграть на твоем инструменте? Великий Октябрь тебе позволяет».
— Здесь, товарищ фармацевт, не балаган, — хмуро заметил Коростелев, — и не музыкальная школа, — добавил он. — Чтоб ноги вашей здесь больше не было! Поповских звонарей мы прогнали, и еврейских не нужно. Потрудитесь найти другие музыкальные инструменты.
Хлопчик поклонился и поморгал глазами.
Коростелев нагнулся над бумагами.
— Я могу идти, товарищ председатель? — осведомился Хлопчик.
— Можете. Уткин, напишите ему пропуск…
Хлопчик опять поморгал.
— Я извиняюсь, может быть, вы разрешите мне иногда поиграть на колоколах? Я же могу представить свидетельство из музыкальной школы.
— Я разрешаю вам убираться к черту, пока я не велел вас арестовать.
Хлопчик вздохнул и вышел.
Коростелев прошелся по комнате. Раскурил папиросу. Старые губернаторские стоячие часы в футляре красного дерева медленно двигали маятником, как губернатор — подагрическими ногами. Коростелев ткнул папиросу в бронзовую чернильницу с голой нимфой, служившую пепельницей, и сказал Уткину:
— Мы никогда не доводим дела до конца. Уж когда-нибудь наши белые приятели прищемят нам хвост на этом. Заявки на колокола все удовлетворить. Пора кончить эту канитель с колоколами. Еще другой какой-нибудь дурак найдется, — захочет колокольную музыку разводить. В пожарную команду и в театр отдать — что просят... На кой ляд нам эти колокола!..
— А в музей? — спросил Уткин.
— Не следовало бы… Мы снимаем — они показывать будут. Я бы эти музеи… черт их щекочи! Впрочем, все равно девать некуда. Пусть берут.
— А большие?..
— По первопутку, в Самохвалово, в плавильную печь… Пиши бумагу в Главметалл. И транспорт, чтоб заранее заготовить. Боюсь только, всю медь попы прозвонили насквозь. На кастрюли и тазы перельют в Самохвалове, — а все позванивать будет… От попов продукция плохая.
Обычный крестный ход из Темьяна на Гремучий ключ едва разрешили. Он вышел из собора ранним утром, без звона. Звонили лишь на встречных приходских колокольнях и то робко и неуверенно. Июнь был знойный, тускло-зеленый, недужливый. Поля блекнули под пятою зноя. Шли с иконами мимо хлебов и примечали:
Читать дальше